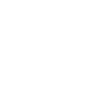2 место в номинации «Проза»
Молодежный фестиваль-конкурс живого слова «ЛиТерра К.»-2023
Анжелика Кубряк
Акулина
12+
Церквушка та стояла на пригорке, прямо там, где от Урульгинки убегала дочка — маленькая речушка, чьё название уже и не вспомнить. Купол переливался синим и золотым на солнце, внутри с большой высоты смотрела Богородица. Она была бледной, местами уходящей в дыры бетона. Большая прореха получилась под мышкой. Думалось мне, как бы хорошо залезть туда, свернуться калачиком и уснуть в этом материнском тепле. Богородица держала ладони раскрытыми перед собой. Казалось, что это она так машет мне: залезай, залезай. И я всегда украдкой махала в ответ.
Конечно, Акулина не ходила в церковь. Угрюмая, высокая, серая, она постоянно смотрела на нас со стороны. И я прижималась поближе к бабушке, пыталась залезть под её шерстяную юбку, укрыться в нарядном воротнике воскресной кофточки.
Про Акулину рассказывали всякое: что она крадёт детей и потом засахаривает их головки, наводит порчу на скот и самое страшное — уводит чужих мужей. Акулина была худой и когтистой. И я думала, что она укусит меня своими акульими зубами, как фильме, который мы с бабушкой смотрели по маленькому пухлому телевизору — и в страхе прижимались друг к другу.
— Не смотри, не смотри, — бабушка подталкивала меня под спину и заводила в холод старинной церкви. Говорили, что когда-то на этом пригорке умер прославленный тунгус Гантимур — не доехал до Петра Великого. С тех пор и молятся здесь о его покое и здоровье всех нас, его названных потомков.
Мне нравились те церковные воскресенья. Бабушка зачёсывала мои волосы в высокие хвостики, оставляла фартук с пришитым карманом на стуле, прикалывала брошку к белой или фиолетовой — она их чередовала — кофточке и чинно вела меня по главной улице. Я заглядывала в соседские ставни, здоровалась со всеми взрослыми и старалась не заляпать воскресные туфельки.
После длинной службы запах ладана оставался на нас с бабушкой, пока мы пили чай у соседки по имени Худая. Она подливала в чашечки кипяток из пузатого самовара и стрекотала. Особое место в тех разговорах занимала Акулина: ведьма и, уж прости, вообще какая-то тутка. Худая сильно смеялась на этих словах, оголяя железные зубы.
А потом бабушке стало плохо. Вот-вот должен был наступить сентябрь, но утром почему-то выпал снег. Худая охала и ругала своего сына Стёпку: тот как-то не так нёс бабушку по сугробам до телеги. «Не проедет», — сказал он и понёс бабушку обратно в дом. Ждали машину, бабушка тяжело дышала, держалась за сердце, голову и бок. Наконец машина приехала. «Не мешай», — сказал кто-то сверху, пока я бегала между взрослых ног. Так я и осталась в нашем доме одна. К обеду снег растаял.
— Вот, покушай, — Худая принесла помидоры и пирог с кислой капустой. Заварила самовар, кинула заварку в кружку, а кубик сахара сказала жевать отдельно — полезно для зубов. Про бабушку она ничего не говорила, и мне казалось, что спрашивать точно нельзя. Потом Худая ушла, а мне было страшно включить свет, да и вообще пошевелиться. В сумерках сверкали глаза незнакомых людей на старинных фотографиях и шуршали расхрабрившиеся мыши.
На следующий день Худая принесла только помидоры, плеснула кипяток и опять ничего не рассказала. Раньше она казалась мне доброй и смешливой. Но теперь она смотрела поверх меня, и я чувствовала себя виноватой, что я доставляю такие большие неудобства. Хотелось в туалет, но как попросить Худую пойти вместе в «будочку» на другом конце огорода? Когда Худая ушла, я заплакала. Бабушка больше не хочет меня знать? А вдруг она вообще умерла? И никто теперь не отведёт меня в «будочку».
— Если будешь много плакать, к тебе чёрт свататься придёт, — голос у Акулины был тяжёлый.
«А ты уже пришла за мной», — испугалась я и зарыдала ещё сильнее. А Акулина, не обращая внимания, по-свойски прошла в дом, зарылась в шкафы и стала закидывать всякое тряпьё в сальный серый тюк. Провела грязным ногтем по фоторамкам и закинула одну туда же.
— Чаво киснешь, идём. Сахар в карманы засунь, пригодится, — и я стала со слезами набирать кубики, которыми покроют мою маленькую мертвую головку.
Акулина жила далеко, за железной дорогой. Пути туда как такого не было, надо было пробираться сначала через поле, а потом сквозь колючие кусты. Я шла тяжело, согнувшись, как будто Акулина свалила на меня свой грязный тюк.
— Чой-то, — она заелозила по моему животу отросшими твёрдыми когтями. — А ну иди сюды, терпеть нельзя, лопнешь, — и кинула меня в колючки, а сама набрала лопухов, чтобы — быстро и умело — помочь мне.
Дом Акулины совсем не был похож на наш. Маленький и косой, холодный и тёмный. В предбаннике засуетилось что-то рыжее и волосатое — пёс Пряник. С печки спрыгнул толстый чёрный кот и поластился о сползшие Акулинины чулки. Комната со столом и печкой («кухонька») отделялась от спальни жёлтой блестящей занавеской.
— Давай, снимай, и гони сюды, — Акулина начала раздевать меня, когда на маленькой переносной плите забулькал тазик. Растёрла тельце жёсткой плохо пахнущей мочалкой и закинула вещи в воду. Я юркнула в колючее платье с короткими рукавами. Акулина напоила меня чаем с молоком. На двоих мы разгрызли одну сухую баранку.
Спать легли на единственную кровать. Я прижалась к безымянному чёрному коту и всю ночь продрожала, ожидая, когда Акулина вонзит в меня свои клыки или закинет жариться в печь.
Проснулась я от запаха гари. Акулина решила сварить кашу, но она никогда не варила каш. Так что завтракали мы сухими баранками, которые размачивали в чае, и несгоревшими комочками из манки.
В доме у Акулины везде висели какие-то веники с цветами, сушился лавровый лист, на покосившихся полках буфета красовались огарки свечей. Самовара не было: воду кипятили в маленьком ковшике. В миске на полу валялись огуречные очистки и подозрительная длинная кость.
— Знаешь, чой-та? — Акулина достала из своего фартука колоду карт. Я кивнула. — Учиться будешь, мне помогать. Угумкаешь?
Валеты и дамы затанцевали меж длинных крючковатых пальцев. Акулина что-то напевала, пока «женила» бубны и черви.
— Вот это — мелкие хлопоты да пустая болтовня, — кинула она тройки и двойки разных мастей. — Это — дальняя дорога, — на стол выпали шестёрки. — А это — большая любовь, — посыпались короли. — А вот как понавыпадают, так ихние расклады и узнаем. Поняла?
Понять что-то было сложно, а сказать об этом — страшно. Карты кружили передо мной, задирая рубашки и строя рожицы.
В дверь тихонько постучались. Пряник чуть заскулил.
— Вхо-о-одь!
На кухню пролезла полная женщина. Я слышала, как она с остальными посмеивалась над Акулиной, если встречала её в деревне.
— Милая, удружи. Что там у Ваньки моего? Баба есть? Вернётся с города?
Тут взгляд полной женщины упал на меня. Вот оно, моё спасение, она заберёт меня, вкусно покормит и отвезёт к бабушке. Но та уже сидела за столом, ожидая, как Ваньку выведут на чистую воду.
Карты запрыгали в Акулининых руках. Та стала словно выше и моложе, взгляд её был сосредоточен и ясен. Она аккуратно разложила на столе карточный квадрат.
— Не бойся и не горюй, мужик твой верен тебе. Но надо ему быть осторожнее с новыми дружками: вижу, как деньги утекают не в евошный карман, — голос Акулины был твёрдым и баюкающим, как у батюшки, что приезжал в нашу церковь по воскресеньям.
Женщина кивнула, поставила на стол шуршащий пакет и ушла. Из пакета Акулина достала кости почти без мяса, пшёнку, огурцы и морковку. Я грустно посмотрела в окно: за ним не было никакого огорода, только одиноко покачивалась на ветру яблоня с маленькими ранетками.
— Тётя Аля, можно? — в дом зашла молодая девушка. Я сразу узнала её: это была жена Стёпки, сына Худой. Девушка кивнула мне и села за стол.
— Не получилось?
Жена Стёпки потупила взгляд и вздохнула.
— Ну, не переживай, Анютк. Чой-то да знаю да могу, только чуть обождать надо, — и Акулина подвинула к ней только что помытую в тазу морковку. Они немного похрустели, и Анютка ушла.
На словах про магию я забеспокоилась. Понятно, зачем меня похитили и почему мне никто не помогает. Это будет жертво-при-но-ше-ние.
— Ну, чаво, давай теперь сама, сама, — и карты юркнули в мои маленькие пальчики, норовя убежать из колоды, как утренняя каша из потемневшей кастрюльки. В тот день мы с ними так и не поладили.
К вечеру Акулина наварила бульон на кости, разлила его на четверых, и мы все дружно залакали похлёбку. Я думала, что ночью надо будет обязательно сбежать, запрыгнуть на поезд, уехать в город и найти больницу с бабушкой. Но заснула ещё на кухонной скамейке, облокотившись о горячий и вонючий бок Пряника.
Воздух был холодным и сонным, когда Акулина разбудила меня. Залила в рот крепкий чай, закинула баранку, обмотала пуховым платком и повела куда-то через поле. Было страшно, утреннее солнце только доставало своё круглое брюхо, на зелёных травинках лежали хрупкие льдинки. Мы дошли до высокого моста: на нём не хватало дощечек и он начал раскачиваться, как только Акулина зашла на него.
— Чё встала, пойдём, — запястье царапнули острые ногти, и меня потащило-закружило: через дощечки, через речку, через самое себя.
— Ой, Алечка, заждались тебя. Антошка ночью буянил, ты к нему потом сходи, — женщина в белом халате достала связку ключей и стала сосредоточенно перебирать их. Выловила нужный и отворила кладовую. — Ты сегодня с помощницей?
Акулина закивала и взяла ведро со шваброй. Меня же освободила из плена платка и вручила бутылку с хлоркой. Мы медленно побрели по длинному коридору: все комнаты тут были без дверей. В просторных холодных палатах лежали мужчины — у кого-то взгляд был пустой, а кто-то начинал радостно скулить, услышав шаги.
Акулина набрала воду в дурно пахнущем туалете — тоже без дверей — и стала быстро орудовать шваброй. Мы заходили в каждую палату, и я крепко сжимала хлорный бутылёк, выдвигая его перед собой как щит. Но вблизи эти палатные мужчины оказались не такими и страшными: они улыбались и пытались приподняться.
— Ну чаво, мой хороший. Болит? Где болит? Щас заговорю, — и Акулина аккуратно клала швабру на пол и что-то шептала надо лбом, рукой или ключицей. Если от кого-то дурно пахло, она ловко — как тогда мне в колючках — помогала всё исправить, заслоняя весь срам своей квадратной спиной.
Мы дошли и до Антошки. Он был полный и лысый, мог сам садиться и даже говорить. На руках остались красные следы — от бинтов, которыми его связали ночью. Акулина обняла Антошку и тот уткнулся в неё широким носом.
Тут я поняла, что надо бежать. Здесь врачи, они наверняка смогут связаться с моей бабушкой, а пока забрать себе. Я рванула по мокрому коридору, по-прежнему крепко сжимая хлорку.
— Видела девчонку? Ленкина же. Неужто Альке отдали?
— А кому она ещё нужна? Единственная родня тут, как-никак.
— Да за ней бы да за самой кому последить. Чудная такая.
— Молодая ты, не знаешь ничего. Просто так бабы ведьмами не становятся.
— Ой, рассказали мне всё. Сама ото всех нос воротила, а потом по женатым-то и пошла.
— И не стыдно тебе? Сами кобели прохода не давали, она ж девка красивая была, хоть и блаженная. А на деревне и затравили, на отшиб свели, она там и стала с домовыми да лешими водиться. Вот у Ленки-то вся жизнь под откос и пошла. Надо было заступиться за сестру-то.
— Так что-то же помогала?
— Ага, больше всех её костыляла, когда с дочкой-то… Сама знаешь что. Сейчас, говорят, сама при смерти в больнице. Всё это бумеранг.
— Что за ерунду вы говорите, Наталья Николаевна. А врач ещё…
— А что? За глаза шипят, как только не клеймят, а чуть что — у порожка ейного плачут… Ой, кто там?
Но я уже неслась обратно к Акулине, разбрызгивая хлорку по блестящей плитке.
Чёрный котейка тёрся о мой бок, подбадривая. Пряник уткнулся мокрым носом в голые пятки — ай, щекотно, щекотно! Я неуклюже тасовала карты, затем достала одну и отсчитала ещё 12, разложив их квадратом на столе. Стала переворачивать каждую нечётную.
— Первая — самое главное, третья — что мешает, пятая — что ждёт, седьмая — что хорошего, а девятая… Баба, а девятая?
— А девятая — помощник, — Акулина перевернула рубашку и заулыбалась. Там была дама треф.
Я собрала карты и начала опять их тасовать. Акулина же пошла греть тушёную картошку с постным мясом. Повариха в палатном бездверном доме ещё подкинула сахарных конфеток и пару подмятых яблок.
После ужина Акулина ушла. Наверное, летать на метле или танцевать с кикиморами. Я же аккуратно полезла разглядывать ведьмовские кульки, обглоданные кости (жена Ваньки приходила сюда часто), расколотые блюдца, церковные огарки и хозяйственные свечи, мышеловки и засушенные летние цветы. Кот и Пряник следовали за мной — так было совсем не страшно.
В пыльном жирном буфете появилось фотография из нашего с бабушкой дома. Там был худой мужчина и круглая женщина. Рядом с ними стояли две девушки — тоже худая и круглая. Я знала, что круглая — моя бабушка. А худая, получается, тоже? Из разговора врачей я вроде ничего не поняла, а вроде и всё. Ушла тревога – если мы родня, никто меня есть и жертво-при-но-сить не будет. По крайней мере, я на это надеялась.
Дни становились короче и плотнее. Мы с хвостатыми двигались по скамейке вслед за робкими солнечными лучами. К вечеру топили печку. Как только приползали сумерки, дом наполнялся людьми. Я садилась рядом с Акулиной и вела расклад на «мелкие хлопоты»: не сглазил ли сосед бурёнку, ехать ли в город с грибами или обождать ещё недельку, белить ли потолок в несезон? Акулина ведала делами сердечными, хворями и далёким будущим. Взамен мы получали хворост, кости, сало, порезанную лопатой картошку и свёклу, иногда крупу.
Свободный день был в воскресенье — никто не решался идти после службы. А я не знала, рассказывать ли Акулине, что слышала про неё от вот этих вот людей, которые со страхом и надеждой взирали на каждый взмах карт, а потом быстро и стыдливо скрывались за порогом.
— Вот так, угольком, угольком, — Акулина «марала» мне лицо, водя пергаментным пальцем по лбу и щекам. На них оставалась чёрная пыль. — Так никакой чёрт на тебя глаз не положит, никакой кобелёк не покусает, никакой молот не ударит.
Затем она надела на меня шерстяные носки, калоши, обернула платком, застегнула куртку-непромокайку и повела за порог. Кот и Пряник заскулили, но осеклись, стоило Акулине бросить на них резкий взгляд.
Мы шли знакомиться с дедушкой Лешим. Так было положено, ведь сразу за полем начинался лес. Значит, именно дедушка за нами и приглядывал.
Лес был сырой, тёмный и ухабистый. Акулина раздвигала ветки, но те пытались схлопнуться и поймать меня в ловушку. Наконец показалась полянка. «Она всегда в разном месте появляется», — тихонько пояснила Акулина. Посреди полянки был пень. Не такой, как показывали в мультиках, а какой-то широкий, занозный и трухлявый.
Акулина посадила меня на этот пень и быстро ушла. Я хотела встать и побежать за ней — но нельзя. За лапами деревьев что-то зашуршало, что-то тоже на лапах. Поднялся ветер, разнёсся аромат гнилой листвы. У-у-у! — протянулось под головой. Пора — и я достала сладкие кубики из кармана. Они были все в нитках и шерсти, но ничего, ничего. Я слезла с пенька и положила сахарок. «Дедушка Леший, кушай на здоровье да меня оберегай», — и рванула в сторону, куда ушла Акулина. На полянке что-то зачавкало и зашуршало.
Жить под защитой стало легко и весело. Акулина не убирала мне волосы, они сильно отросли и лезли в рот. Но мне нравилась такая лохматость — предсказания становились значимее, а мы с Акулиной — похожее.
— Баба, а как мне гадать на любовь?
— А ранёханько тебе ещё на любовь. Сиди, бычков считай.
— Баба, а мне не надо в школу идти?
— А тут тебе лучшая школа.
— Баба, а что значит дама треф?
И Акулина посмеивалась, перебирая дары от просителей.
В палатном домике я больше всего любила сидеть с Антошкой. Ему всегда приносили только мягкую еду: размалывали вилкой картошку или какие другие отваренные овощи. Но и так он упрямился, переворачивал тарелку, ругался злыми и шершавыми словами, махал подушкой, а иногда бил себя по голове — и тогда ему ставили укольчик, после которого он долго спал.
— Я ем, и ты кушай, — говорила я ему в спокойные дни. Антошка был большой-большой, но я чувствовала себя старшей. — Вот так — ам! — и засовывала себе в рот солёное морковное пюре.
— Мама, — смотрел он на Акулину, быстро орудующую шваброй.
— Какая же она мама, она баба, — недовольно поправляла его я.
— А мама? — и начинал бить себя по голове.
От врачей я услышала, что бабушка идёт на поправку — ух! И очень недовольна, что я живу у Акулины. Она оставляла тысячу рублей Худой.
Деревья бесстыдно оголились и начали царапать своими когтями слишком низкое вечно пунцовое небо. Луна была большой-большой и красной-красной. У Акулины не было икон и образов, она жгла огарки церковных свечей и шептала какие-то свои молитвы, сжимая ветку полыни. И говорила, что ей всегда отвечают.
В ту красную луну и настало время для большого дела. Акулина замесила лепёшки из серой муки. По одной мы в полном молчании съели перед выходом из дома. Ещё две взяли с собой — чтобы вернуться в этот мир после ритуала.
Залезли в чужой огород. Было темно, пробираться приходилось тихо, чтобы прикормленный пёс в будке не проснулся. «Ой!» — «Не ойкай!» Мы нашли дощатую дорожку и по ней дошли до капустного поля. Основной урожай уже собрали, но надо было найти маленькую, несмотря на холод и заморозки всё-таки народившуюся капустку. Мы копались в подгнившей листве, утыкались носами в землю и выдыхали секретные слова.
Наконец маленький кочанчик отозвался на Акулинин шепоток. Она ласково достала его, покачала, примерила к своему животу и довольно кивнула. Затем мы пошли к дому Худой и засунули кочан под крыльцо, выкопав небольшую ямку. Акулина надорвала свой длинный ноготь и полила кровью получившийся бугорок.
— Баба, а зачем ты Аньке помогаешь? Они с Худой всякое плохое про тебя говорят, — спросила я, на ходу жуя пресную лепёшку.
— Так и пусть говорят. Что ж теперь? Я, может, не для них, а для себя хлопочу-то, — многозначительно сказала Акулина.
— А это Анька мамой хочет стать?
— Угу, маленького хочет.
— Может, и к моей маме сходим?
На кладбище нельзя было ходить в среду и пятницу. Поэтому отправились в четверг, после утренней уборки в палатном доме. Руки у Акулины всегда краснели и трескались после хлорки, а на холодном ветру даже побелели.
Ходить на кладбище — целое дело. Надо запутывать бесов, петлять по дорожкам и не болтать. Мы зашли за оградку и закрыли её на крючок – теперь в безопасности. Акулина достала сахарные конфетки— продавщица в магазине отвесила кулёк бесплатно — и дала мне сразу две. Было просторно: две могилки — строгий взгляд деда и мягкий мамы — и пустая земля. Для бабушки.
Папка тоже лежал в могилке, но далеко, в городе. «Его» бабушка и дедушка передавали мне гостинцы и одежду. Бабушка не водила меня на кладбище, а когда возвращалась с него, то всегда что-то плохое шептала про папку. Гостинцы она передаривала не распаковывая.
— Я ей говорила: „Пропадёшь“. А она: „Нет, люблю, спасу“. Ленка-то и ненавидит меня за то: всё знала, да не сказала. А я каждый день шептала, шептала — не отшептала, — Акулина говорила это не мне. Может, её отцу, которого разглядела среди крестов. А может мелкому бесу, резвящемуся у оградки.
Я же удивилась: как так, Акулинина ворожба не всегда работает? Небо затревожилось. Мы засобирались домой. Лицо мамы смотрело с фотографии по-доброму спокойно. Она бы наверняка помахала мне на прощание.
— А почему у кого-то тумбочки, а не кресты?
— Так это кто не по-божьи жил иль умер. Им в рай не положено.
Я задумалась, вспоминая, кому положено в рай.
— Баба, а тебе ведь тоже… Ну…
— Ну, а то не мне решать. Авось, вот этими коготочками зацеплюсь за какое дерево, да и выберусь. А может, добрые дела и поднимут, как ангелы-архангелы.
Один из ноготков был обмотан бинтом. Наверное, сложно было бы с таким карабкаться… Дома мы растопили печь и долго плескались в тазу, смывая с себя кладбищенский дух.
Конечно, Акулина не ходила в церковь. Но пригорок, где покоился сам батюшка Гантимур, был священным для любой ведьмы. Да и надо было как-то добывать церковные огарки. Мы кружили по холму, смотрели, как разбегаются речки, жевали сухие травинки. Зазвонили колокола, из дверей посыпались угрюмые и голодные люди. Мы потихоньку пошли к ним: батюшка выйдет и можно будет нырнуть за огарочком, а то и целой свечкой.
— Ты смотри, смотри, пришла, — зашептались кумушки.
— А на эту глянь, что за чертёнок с ней.
— У-у-у, и не стыдно?
Акулина смиренно стояла у паперти. Слова пружинили и отлетали от её плеч, длинной юбки, пошарпанных ботинок. Я же пряталась за неё, вглядываясь в знакомые лица: все они переживали за своих коров и кур, злились на мужей и волновались из-за непутёвых дитяток. И все искали утешения в колоде, которую ловко тасовала Акулина, по карточному кирпичику выкладывая им новую судьбу.
— Вы, это вы, а вы! — вдруг вспыхнуло где-то в моей глотке. Мне хотелось сказать, что это они дураки, что это они не правы, что зачем же они ходят сюда, и что все коровы бы передохли бы без Акулины и ни один ребёнок не народился бы без её ноготка.
Я вырвалась вперёд, залаяла, как Пряник, зашипела, как безымянный ведьмовской кот. Слова горели, но не складывались, наскакивали друг на друга и превращались в хульный и стыдный язык Антошки.
И тут я увидела бабушку. Не мою, а «папкину». Рядом с ней стоял и дедушка. Они сдвинули брови, так что глаза исчезли: что это за худющее лохматое существо в драной ветровке? Миг — и мир закувыркался, затрясся, запах городской машиной. Акулина бросилась ко мне, оттолкнула дедушку и сунула что-то в карман. Уже вдалеке от деревни в полусонном слёзном коматозе я нащупала колоду карт.
Конечно, я больше не гадала. Всё быстро позабылось: чётную или нечётную карту считать верной? Валет — это предательство или дальняя дорога? Как быть, если за тузом пришёл король? Да и сколько бы я не тянула карту, мне всегда выпала дама треф.
Бабушке меня не отдали и стали воспитывать как нормального человека, с кружками по музыке и танцам, с репетитором по английскому и химии. С хорошей одеждой и плотным завтраком, обедом и ужином. С породистым котом Персиком. С рассказами о том, каким чудесным мальчиком был мой отец — просто связался не с той компанией. С поступлением на медицинский и с красным дипломом.
В отделении без дверей, где я хожу в белом халате, по-прежнему сидят Антошки. К ним иногда приезжают мамы, которых потом обсуждают нянечки и поварихи. А я теперь точно знаю, что Акулине отвечали на все её молитвы. Точнее, что она слышала ответ.
Иногда я сомневалась: а была ли Акулина на самом деле? Вдруг мне всё это приснилось? Говорить о деревне было нельзя, созванивалась с бабушкой я только по большим праздникам. А потом к нам перевелась сестричка из того самого палатного домика. Она и рассказала, что Акулина умерла. Но тело её не нашли и решили, что она теперь танцует с Лешим или даже самим Гантимуром, наводя страх на всех его названных потомков.
Но я думаю, что это не так, Акулина. И что свод ангелов-архангелов поднял тебя высоко-высокого, но не к раю. А к маленькой бетонной бреши в одеянии Богородицы в той самой церквушке на пригорке. И там ты, Акулина, спишь в блаженном всепрощающем тепле, далёкая от людских колких слов и божественных судов.
И держишь раскрытой ладонь, чтобы помахать мне в ответ.