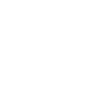1 место в номинации «Проза»
Молодежный фестиваль-конкурс живого слова «ЛиТерра К.»-2023
Михаил Афанасьев
Заключение
12+
“Жизнь моя! иль ты приснилась мне?”
С. Есенин.
От долгого, временами звонкого зимнего пути за форелью Бориса Ефимовича оторвала трель будильника.
Прежде чем очнуться Борисом Ефимовичем, он на мгновенье открыл глаза, схватил строгий и холодный голубой оттенок, заполнившей всю комнату и сообщённый ей как будто сном, медленно моргнул и увидел как рассвет окрасил стены в светло-светло-розовые тона, не могущие заглушить собственных цветов предметов. С пол минуты поколебавшись, Борис Ефимович рывком откинул одеяло, заворочался, стараясь как можно скорее сгруппировать ноги, повернуть неповоротливое тело, вставить ноги в тапки, дотянуться до кофты – и всё это разом. И всё это затем, чтобы холод утреннего воздуха не успел до него дотянуться. И всё это – бесполезно. Воздух не обгонишь.
Не успел Борис Ефимович добраться до комода, а его уже мелко потряхивало. Над будильником он замешкался. Героическим усилием воли поборол острое желание вернуться в остывающую, но всё же не до конца остывшую постель и стал чистить зубы, умываться. Давнишняя привычка: умываться у себя, несмотря ни на какие ванные. От прохладной воды и энергичных движений он совершенно проснулся и запыхался.
Заправил постель, переменил бывшую когда-то нежно-лососевой пижаму на коричневый костюм с невытравляемыми складками. С третьего раза завязал красный в полоску галстук. Уже ощущая запах и вкус утренних яиц и половины сосиски, и маленького кусочка хлеба с горчицей и жмурясь, чтобы усилить эти ощущения, нажал на ручку двери. Ручка не сдвинулась с места.
Что такое? Борис Ефимович отступил на шаг от двери и сощурился на ручку. Обычно она была наклонена градусов на тридцать и, чтобы открыть дверь, её нужно было довести до шестидесяти или поставить почти вертикально. А сейчас она была точно параллельна полу.
Борис Ефимович ещё раз попытался на неё нажать. Ничего. Что это такое? Он повернул ключ в замке. Не заперто. Не сломано. Не-о-быч-но. Он вынул ключ из замка, посмотрел в скважину. Ничего не видно.
Он отошёл от двери, сел на кровать, похлопал себя по коленям, повертел головой. Тоненько хихикнул. Что-то набухало внутри. Снова подошёл к двери и снова попробовал нажать на ручку. Х-хм. Может подпёрли? Чем. Он постучал одними пальцами. Прислушался. Затем постучал ещё и ещё. В груди что-то кольнуло. Костяшкам уже было больно и он стал стучать маленькими мягкими кулачками.
Ду-дум-дум. Дум-дум-дум. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Дум. Дум, дум, дум. Дам-дам-дам.
Что-то кольнуло в уголках глаз.
– Клара, – у него почти не было голоса, – Клара… Клара, – голос его медленно креп, пока ему не удалось закричать, – Клара!
Ответа не было. Ушла она? Нос был холоден, в глазах щипало, руки мелко дрожали. Дура. Что же это так-кое? Он попытался позвать другого соседа. Ответа не последовало. Ясное дело, раз она ушла, то и он. Борис Ефимович глубоко вздохнул и сунул похолодевшие руки под мышки. Тоскливо взглянул на будильник – прошло только полчаса. Собрание. Борис Ефимович грустно вздохнул. Он не впервые опаздывал и не впервые не по своей вине, но впервые так тоскливо и гадко ему было. Он разом вспомнил как в детстве от страха терял голос и не мог объяснить учителю, что урок он выучил и только нужно посмотреть вот тут; как его схватили два пахнущих водкой и мочой солдата и поволокли в какой-то проходной двор и как по дороге, будто его с ними и не было, совещались пристрелить, не пристрелить; как к нему пришли однажды ночью, заставили стоять в пижаме, босиком и смотреть как рвут его книги, комкают бумаги, как его куда-то повели и несколько дней он почему-то не мог уснуть… И всё это вдруг стало одним моментом – настоящим моментом. И руки не сгибались в локтях. И пальцы не могли сжаться. Он задыхался и не замечал этого. И случайно выдохнул весь застрявший в груди воздух со словами:
– Это какой-то дурной сон.
Слепящее счастье. Он попробовал дверь. И почему-то не расстроился.
Окно? Он поспешил к окну, споткнулся, чуть не упал, чуть не ударился. Окно было на шестом этаже: по, над, по обе стороны были очень крутые скаты крыши. Борис Ефимович дрожащими руками никак не мог растворить рамы. Разлепили же! Внутренняя наконец поддалась. Одна, две, да сколько тут замков! Зачем герань, какая герань! Горшок упал на бурого цвета плед, покрывавший кровать, цветок показал свои корни, часть земли просыпалась, но Борис Ефимович этого не заметил. Он путался в занавесках: одну защима и грозила порвать неподатливая створка, другая – как то-так опутала податливую, что та застряла ровно на середине пути к открытию. Подалась вторая рама, пошла с натугой вперёд. Борис Ефимович чуть не упал, но удержался и минуту сидел закрыв глаза и ощупывая рукой стену.
Собравшись с мыслями он с величайшей аккуратностью высунул голову в окно. Симметричный двор был пуст. И чист. Окна были то закрыты, то в них были отварены форточки. И ни в одном не было света, не было ни одного лица. Нигде за этими окнами он не мог найти жизни, хоть одного движения. Справа была крыша без окна, слева было крохотное оконце ванной. Позвать? Как-то неудобно. Он ещё раз огляделся. Но где люди? Даже верёвки. Он вернулся в комнату. Что случилось?
Отвлёкся и позабыл. Сидел на кровати и вслушивался в себя, в комнату. Чувствовал себя как когда-то в детстве, когда сон после слёз делал его очень лёгким, свежим и почти радостным. Но вот этот тяжёлый дух.
Ещё раз попробовал дверь. Отвернулся, ища о чём подумать, чтобы только не о ней, и зацепился взглядом за рассыпанную на покрывале герань. Вернуть её в горшок не составляло хитрости, в отличие от того, чтобы что-то сделать с землёй. Она была суха, и когда Борис Ефимович счищал её рукой с пледа в фаянсовую посудину, он не столько стряхивал, сколько втирал её в плед, отчего запах её усиливался, а Борису Ефимовичу хотелось кашлять. Почему-то он почувствовал, что живот раздут и постепенно ещё раздувается. И всё хотелось взглянуть на дверь; и каждую минуту он ожидал, что ручка снова окажется наклонена.
Тяжёлый дух становился совсем невыносимым – без единого движения воздуха, без единого звука… Никак. Борис Ефимович сидел долго, голова его начинала тяжелеть, будто бы даже начиналась мигрень. Плечи ползли вверх. Против обыкновения он не мёрз. Даже наоборот, его уши, а потом щёки разбирало тепло, как в предбаннике или у печи. Ему стало совсем жарко. Посидел, прислушиваясь. Затем выглянул из окна, по-детски пытаясь быть незаметным. Ничего. И никого. Вскочил, зачесал толстую шею. Дрянь, дрянь! С силой топнул ножкой и стал ходить по комнате: четыре шага в одну сторону, пять в другую, три с половиной, затем четыре. И снова. И снова. Руки сжал за спиной, плечи непроизвольно задрались. Впервые за всю жизнь этот милый, неуклюжий добряк, злясь, сознавал свою злость и давал своей злости волю. С каждым кругом он топал всё сильней и сильней. Голова обещала закружиться. В другую! Сменил направление, ударился большим пальцем о плинтус, пытаясь по инерции шагнуть четыре раза. И ударил в дверь коленом.
– А-а-а-ай! Ну ты Чёрт! Чёрт! – завопил он, схватившись за ногу, – Дай! Ну! – и он со всей силой заколотил в дверь обоими кулаками, – А нут, Ну-у-у… – запыхтел, всем весом повисая на ручке.
Бесполезно.
– Дрянь! – вскричал Борис Ефимович и, развернувшись, пнул пяткой в филёнку.
Ударился ещё больнее. Рухнул на постель. Полежал какое-то время так, пока не затекли члены. Заполз на кровать целиком. Уткнулся лицом в угол одеяла. Ногой попал в отверстие пододеяльника.
Бессильная злость душила его в темноте, накатывала волнами. И перед глазами полыхали красные полукружья, будто растушёванные. Беспомощность и злость – и все те моменты, когда он был беспомощен и зол, но не мог, не умел – явились теперь и оттеснили в его уме всё происходящее.
В темноте закрытых глаз вспыхивали лица, руки, голоса: Тамары и её любовника – белого офицера – усики цвета кожи, да что же, глянец сапог, приятно… к-хм, я не хочу, но прости, сирень и чёрные волосы, ударить бы его, её, избить, боже, без пощады, застрелить, и любить, но очки, стихи, стихия – она стихия, дрянь, прости, хорошо, счастья. Всполохи учителей – борода, зачем не выучил! кефирный запах, закон, энвпарт, а агапэ-с, очки, тычки, чернильный шарик, грязный воротник и по шее (чтоб мыть, мылить, намылить) иэ, а, иэ, и… плохо-с говорить-с. А что я, что я им всем, зачем, зачем! И я. Всполохами: тычок, летящая в нос ступенька, смех, трещина. Трясут рубаху, подштанники, читают письма – а это что за слово? ну и мазня – балда, каракули. А посмотри. Ну шагай! Водка и щука. Сырая овчина. Отдай!..
Борис Ефимович плакал. Он не заметил как слёзы пролились. Он вообще редко плакал, хотя часто ощущал приближение слёз – когда он был особенно беспомощен. Его доброта, неуклюжесть, его робость были как бы следствиями старых и причинами новых неудач. Он привык не замечать этого, а вернее привык с этим жить. И каждый его промах, каждая неловкость и неудача будто обостряли в нём, усиливали его неприспособленность к жизни, его детскость. И теперь всё то, что скапливалось в нём, что пряталось за его милые манерки и рассеянность, пролилось горячими слезами. Ярость, которую он непроизвольно запрещал себе испытывать, получила теперь такой выход.
Дыхание его скоро стало ровным и он продолжал плакать просто так.
Ему показалось, что он уснул. Или не уснул. Сон и покой так похожи.
Глаза он открыл в розовых сумерках, подошёл к умывальному кувшину, долго пил и снова лёг, ворочился. И что-то тогда случалось: буйное, долгое, запутанное, чем-то совершенно отличное от настоящего, а значит – сон. И от этого “сна” он каждые два часа поднимался с кровати, шёл к кувшину и пил из него, и снова возвращался. И опять, и опять. Эти “сны” накладывались один на другой и все вместе накладывались на короткие подходы к воде, так что кувшин, руки, плед виднелись сквозь череду угасающих витражей.
Борис Ефимович не понял как прекратился этот однообразный заревой бег. Скорее всего это совпало с тем, как он сознал себя Борисом Ефимовичем. Тогда он поднялся, облокотился на подоконник, упёрся плечом в нераскрытую створку и стал всматриваться в прозрачность двора с его перекрашенными в грязно-розовый стенами. Ветра как будто не было, но внешняя створка качалась (без всякого скрипа), и скоро Борис Ефимович различил своё отражение, смотрящее куда-то в комнату. Полупрозрачный Борис Ефимович (вот уже тридцать лет, как он называл себя так даже с самим собой, и не было ни единой души, которая бы называла его иначе) был растрёпан; складки на пижаме вдруг показались ему неряшливыми, лицо – и всегда-то большое, мясистое – было отекшим и помятым.
Он повернулся к двери. Мысль попробовать, как у всякого давно заключённого, была лишена надежды, но как и у всякого заключённого, была неотделима от самого его заключения. И он с грустью безвыходности взглянул на параллельную полу ручку.
Заточение. Сколько я? Он попытался сосчитать по пальцам, но запутался, голова была тяжела. Как гром не сразу ударяет за молнией, но выжидает, подготовляя испуг, так и догадка не сразу пришла Борису Ефимовичу, но помедлила, подготовляя свою неоспоримость. Он вспомнил отца, как тот водил его, маленького Бера, в тёмную душную квартиру, где сухой старик бубнил что-то. Герань? Сколько? Семь дней? Неужто сорок? На следующий день после мира? Мама всегда учила его, и не только его – всех, что порядок — это хорошо, что надо блюсти себя.
Ум его вспоминал почти машинально, будто стараясь загородить главное. Но это было как с развиденной иллюзией – как ни старайся, её не воскресить. И мысль Бориса Ефимовича соскальзывала с того, что выставляла память. Это всё так. Вероятно, он имел в виду “бесполезно”. Мысли осыпались столь стремительно, утратив всё словесное оформление, что осталось лишь “это всё так”. Розоватая дымка, закрывшая небо, проникла в комнату, царила в ней. Рассвет? Закат? Который. Проникала в голову, в глаза Бориса Ефимовича, и он уже слабо различал предметы, цвета. Он сделал шаг, другой, лёг на постель. Смотрел на маленькую щёлку, которую никогда прежде не замечал, – между плинтусом около двери и паркетной доской. Мир стремительно блёк и размывался. Слёз не было. Слов тоже. И ничего не было.
Только дыхание, только тело… Не было даже тела, потому что не было никаких ощущений. Было не тепло и не холодно. Подушка была никакой, плед, полусползший с постели, – его не было. Борис Ефимович ничего не чувствовал. Рубаха душила его застёгнутым воротом, брюки натянулись и жали в поясе, в бёдрах, но он не чувствовал этого и ничего не делал. Он лежал недвижим, будто заранее умер.
Тело не отзывалось. И казалось, некому уже было его позвать...
Пришла тень. Если бы осталось что-то, что бы он ощущал, тень бы заслонила это.
Борис Ефимович открыл глаза – не зная, спал ли, проснулся ли, что, – и был по-хорошему спокоен и даже немножко бодр. Голубоватый лёгкий свет, последний призрак ночи, царил в комнате. И что-то смутно напоминал. Но мысль, которая мелькала там и тут, но до сих пор не была ясна, – мысль о том, что он в каком-то плену, заточеньи, теперь спокойно и ясно стояла перед ним. Отчаянье, суета недостаточно сильного горя отступили перед ней. И напротив, вместо них вышла вторая мысль. И непременно в какой-нибудь неподходящий день. Он договаривал что-то, начатое ещё до темна.
Он встал медленно, чувствуя даже торжественность. Заправил постель выцветшим и затёртым клетчатым сине-зелёным пледом. Умылся, напился. Снял некогда голубую пижаму и надел лучшее бельё, что у него было, и тождественный синий костюм с шёлковым подкладом. Повязал синюю в белый горох бабочку. Осмотрел комнату. Дверь веселила его и раздражал, и он с удовольствием избегал прямо на неё смотреть, чтобы не тревожить своего приятного спокойствия. Вслушался в тишину. Ему показались: мелкий звон из-за окна, глухие неясные звуки снизу, будто что-то равномерно падало. Ничего этого, конечно, не было. Не было и дальних неразличимых голосов. А это только так бывает, когда в тишину вслушиваешься долго.
Борис Ефимович сложил руки на груди и стал думать. Когда-то он читал, что восточные мудрецы умели усилием воли останавливать своё сердце между двумя ударами. Итак, окно. В самом деле… Он подошёл к окну. Один из шагов получился неожиданно гулким. Раздвинул шторы. Ровный свет немного ослепил его. Он отвернулся, зажмурился, подождал, проморгался, поглядел на раму. И стал открывать первую створку. Она шла туго, хотя уже была очищена от зимних укреплений. Вот первая щеколда, вот вторая – странно взвизгнула. Борис Ефимович медленно растворил их, помня о том, как раньше они запутались в шторах. Очередь вторых створок. Ещё туже. Так, а ну-ух… Эти открылись со стуком. Он распахнул их наружу и взглянул на двор.
Торжественный момент. Двор был полупуст: бельё, велосипед, след от сугроба в тенистом углу. Мягкие голубые и синие тени разнообразили жёлто-серую окраску стен. Перегнувшись через подоконник, Борис Ефимович высунулся в окно. Очень свежий воздух обдул его лицо и Борис Ефимович поёжился. Вернулся в комнату, думая, что может быть стоит утеплиться чем-то. Уже было направился к комоду, но вспомнил, что это лишнее, что холод пройдет почти тут же. В эту минуту открылась дверь.
– Борис! Зачем ты так окно открыл? Ещё же холодно.
В комнату стремительно вошла высокая сухая дама в выцветшей изумрудной шали и резким точным движение закрыла внешние створки окна.
– Клара? – беззвучно выдохнул Борис Ефимович.
Затем закрыла внутренние створки, обдёрнула шторы.
– Клара! – он бросился к сестре.
– Боже мой. Ну. Да что с тобой. Ну-ну, – она погладила его по плешивой голове.
– Клара… – только и мог сказать Борис Ефимович, вцепившийся в сестру.
– Пойдём, лучше, чаю выпьем.