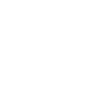3 место в номинации «Проза»-2022 (возрастная категория 25-35 лет)
Елизавета Гарина
Двое
18+
С самого рождения я смотрел только на одну из них – ту, которая подарила жизнь. Ту, что была равной этому миру во всех его измерениях и размерностях. Ту, что в начале Всего была темна и пуста, как вселенский космос, а после дала спокойствие и теплоту. Она была для меня всем – счастьем, страхом, блаженством, радостью, грустью, тишиной, морем, ветром, сырой землей. Ничто даже на йоту не могло сравниться с ней. Безоговорочная скрижальная любовь.
Шло время, и я познал другие миры – других женщин. Каждая повстречавшаяся мне – уникальная планета. У каждой своя гравитация, атмосфера, траектория движения, у каждой свои времена года, и число дней в году у каждой свое. Одна возвращается, как Венера, другая по-марсиански постоянно соревнуется с тобой, третья дальше, чем Плутон, четвертая, пятая, и так далее, не останавливаясь на восьми, – женских миров ровно столько, сколько самих женщин. Их причуды, как милые им рюши и кружева, удивительны и очаровывают любого мужчину. А их колкости, страхи, комплексы, робость – полны загадок и неразгаданных тайн, раскрывая которые обнаруживаешь в себе то ли Одиссея, то ли Гомера. И эти миры управляют нашей жизнью. Пойдете в магазин, в школу, в институт – по пути непременно встретите женщину, не говоря уже, о том, что там, куда вы направлялись, их пруд пруди. А больницы, министерства, академии? Они и там взаимодействуют друг с другом лучше механизмов часов. Если присмотреться к их вращению, к тому, как одна шестерня движется по другой, то те чуть видные штришки света и есть мы, мужчины. Этот мир – мир женщин, и он подобен им.
Нет, я не болен, не при смерти, и, да, я все еще мужчина. Но для большей убедительности и очевидности моих слов, представьте, что я говорю их со сцены. Здесь нет вранья, ибо эти слова вскорости будут с нее произнесены. Представьте, что я один из богатейших в мире людей (богатство, как правило, всегда сопутствует влиянию). Тим Бернер, Билл Гейтс или Уоррен Баффет – любой из них имеет огромное влияние и богат. Представьте меня одним из них. Я прошу вас представить именно их по той причине, что люди верят в то, что если разделять мысли таких людей как Тим Бернер, Билл Гейтс или Уоррен Баффет, то непременно поднимешься на ту высоту, какую достигли они. Верьте – в этом, действительно, что-то есть. А теперь представьте, что все эти слова я говорю вам на вручении масштабной премии – такой как Нобелевская премия мира, а трансляция ее идет на все страны и континенты. Представьте, что в каждом доме, все – от мала до велика – прильнули к экрану, словно этим вечером показывают церемонию вступления в должность президента страны, и, боясь разочароваться в своем выборе, ловят каждое произнесенное им слово; в каждой его паузе для них блещет надежда на счастье, а от точности интонации зависит длина их собственной жизни… Представьте, то, что я вам говорю по важности равнозначной словам вами избранного президента.
Я не надеюсь, что кто-нибудь меня услышит. Не надеюсь, что какой-то маленький мальчик настолько впечатлится умным дядей, что когда вырастет, пойдет проповедовать его мысли в капиталистические земли. Не надеюсь, что мысли, как электрон и позитрон, ходят парами, и в ком-нибудь они вспыхнут абсолютным знанием, не надеюсь, что, проиграв сансаре, мы вернемся на землю, и эти мысли спустя тысячи лет сделают еще один виток вокруг земной цивилизации. И все же я надеюсь...
Да, я не тот мужчина, которого просил вас представить, и, конечно, мне никогда не быть нобелевским лауреатом, не стоять по части влияния в одном ряду с Биллом Гейтсом и Нилом Армстронгом, – простите меня, прости меня, мама, я так хотел, но у меня не вышло. Я не стал астронавтом, ученым, врачом, которым ты хотела меня видеть, не стал поэтом, музыкантом, художником, которыми мечтал стать в детстве, актером, учителем, на которых учился в институтах, милосердным и порядочным, какими учила быть меня ты… И мысли мои наивны и глупы, но я преклоняюсь перед всеми прекрасными мирами, которые ты позволила мне увидеть, я вдохновляюсь каждым из них, и в каждой узнаю тебя, мама, ведь ты теперь то большое целое, в котором они – части.
Так говорил он.
Так говорили, что он так говорил.
Еще говорили, что когда он так говорил – как заведенный ключиком петушок ходил возле лежащим на полу телом. Говорили, что потом он сел на стул, и, посидев с минуту, встал и вышел на балкон. Там, на балконе, никто не слышал, чтобы он что-то говорил.
Но кто это говорил? Кто был там, и был ли там кто-то, кроме мертвой женщины и странно-неопрятного мужчины с бессмысленно двигающимися глазами?
***
Ему почти сорок. Все эти почти сорок лет он живет с мамой в тридцати двухметровой двушке на Черниговской. Хотя нет – несколько месяцев в году он проводит не здесь, а в спецучреждении на окраине города. Пребывает он туда примерно с четырнадцати лет, когда с ним случился первый приступ. С учетом этих месяцев, получается, что живет он здесь, в доме на Черниговской, около тридцати пяти лет.
Раз в три месяца, а иногда – чаще, его обкалывали арсеналом нейролептиков, порой не брезговали – когда в медсестрах ему виделась мать – «крестить» сульфозином, а через несколько месяцев возвращали домой ни то ребенка, ни то человека, ни то зверька-суриката. «Полечимся» – говорила мать, когда в разгар очередного эпизода пыталась заставить его добровольно – без спектаклей на радость соседям – поехать в больницу. После ее «полечимся» Владимир на несколько дней оккупировал балкон. Мать приносила ему тарелки с едой, а относила детский горшок. Нет, тарелками он не бросался в прохожих – мать забирала и их, – он просто смотрел на людей и объекты. Как синица в скворечнике. Грузный, с поплывшим лицом, обрюзглость которого не скрывала отросшая черная борода, наблюдал:
— идущих через двор взрослых и школьников;
— детей из их дома, которые играли во дворе после учебы, и нередко писали в кустах под его подъездом;
— старшеклассников и тех, кто давно окончил школу, как те сосутся в дверях подъезда (особо в летнее время);
— собачьи свадьбы, кошачьи похороны,
— людские свадьбы, скорые, похороны;
— соседские машины и клумбы;
— седеющую в середине двора иву.
Смотрел за жизнью двора до темноты. Казалось, мог бы и дольше – до темноты веков, точнее, сквозь темноту небес разглядеть и темные века, но древность его не так занимала, как настоящее. Сидел он на своем балконе, а вокруг говорили – живет. Так говорили, когда спрашивали: в вашем ли доме живет маньяк/псих/«тот, что ку-ку»? Говорили, как и врачи, светила советской психиатрии конца 80-х, мазавшие без разбору «вялотекущей шизофренией» – ничуть не сомневаясь. А те, кто не знал, кто находился на почтительном расстоянии уважения, сопряженного с любопытством, называли – «балконным мужчиной». Его мать, Зинаида Михайловна, когда впервые услышала это прозвище своего тогда двадцативосьмилетнего сына, подумала почему-то об его отце (он развелся с ней после того, как Вове поставили диагноз, а через полгода женился вновь) – но не могла понять, почему он – «балконный», ведь по балконам тот не лазил, даже на свой почти не выходил. Как женщина деликатная и практичная – учительница русского языка и литературы все-таки – никогда не показывала своего непонимания, пока в разговоре с соседкой снизу не выяснилось, что когда так говорят, имеют в виду ее Вову.
Зинаида Михайловна проучительствовала в районной школе более сорока лет. В той самой, что была в ста метрах от их дома, той самой, куда через двор, по вытоптанной не одним выпуском дороге, ходили дети их соседей, да и со всех близлежащих домов, куда ходил и Вова, а после и его сводный брат Алексей.
Угол школы хорошо был видел с точки, которую занимал Владимир. Оттуда даже было видно окно, уменьшившееся до размеров спичечного коробка, и таких же уменьшенных перспективой мальчиков, сидящих на последней парте, где когда-то сидел он. Владимир иногда вспоминал то время – мастикой натертый паркет коридоров, блестящие от съезжавших с них задниц перил, череду серых конусов люстр, висящих над составленными столовыми столами, запах яблочно-грушевого компота, самолетики в кронах школьного сада.
Он любил самолетики. И кораблики тоже любил. Даже сам собирал модели. Даже после в этом преуспел. Но тогда его страсть перебили персональные компьютеры. Возняк и Джобс – вот о ком были разговоры. Он отчаянно ждал их приезда, чтобы обсудить совместный проект для космической миссии «Марс». Даже в больнице, когда рассказывал об этом, очень переживал, что не видел поблизости мать: «Как это мама не увидит, нельзя чтобы мама не увидела, мама должна видеть… Мы должны поехать вместе, нам уже скоро выходить, где она? Почему ее до сих пор нет? Вы же обещали, что привезете ее сюда…»
Нет, конечно, ни Джобс, ни Возняк, и не даже Гейтс – не были повинны в его болезни – генетика: дедушка по материнской линии Михаил Геннадьевич, авиаконструктор, тоже страдал от шизофрении, пока не повесился. В ванне. На телефонном проводе.
Владимир немного помнил деда. Гулял с ним маленьким по зимнему двору. Помнил большие дедовские валенки. Теперь он выходит во двор с матерью. Совсем ненадолго. Раньше выходили чаще и на подольше, раньше и матери не было под семьдесят.
Раз или два в полгода их можно видеть не спеша идущими через двор: он – в старой советской куртке на тонком синтепоне, она – в пальто той же эпохи и меховой покоцаной шапке – то ли беличьей, то ли из хорька. Такими зимой. А летом: на нем – отцовский сизый плащ, на ней – темно-коричневая длинная вязаная кофта с воротником, по которому серебристой паутиной рассыпались выбившиеся убранные наверх волосы.
Такими они возвращались из больницы, шли через реку по мосту, потом сворачивали налево и тихой сапой брели к своему дому. Так шли всегда. И всегда держась за руку. Если бы их не знал – никогда б не угадал в одинаково тяжело шагающих людях мать и сына.
Когда они пришли, было начало первого. Владимир ушел к себе, в мастерскую, клеить самостоятельно спроектированную модель космического корабля. Там у него длинный стол, материалы, компьютер с установленным программным комплексом САПР. Мать же хлопотала на кухне, разогревала обед. Как раз когда мешала закипевший борщ, она и почувствовала жгучую боль в груди, погасила комфорку, и пошла в большую комнату за нитроглицерином. Вова слышал, как за стенкой открылся секретер, где мать хранила лекарства, как она шелестела пакетами и оплетками. А потом услышал, как она упала.
И сейчас она там. Под открытой дверцей. Лежит. Уже третий день. А он, через стенку – на балконе. Сидит и смотрит, как под старой ивой, в центре двора, сидят двое.
Сидят рядышком и держаться за руки. И, кроме, как держать в своей руке другую руку, им на свете ничего и не надо. Как и иве, – только шелестеть рядом с ними длинноносыми листочками – миллиондневной когортой нависшей ей на глаза.
Сумерки окутали двор, а двое так и сидят. Так же – держась за руки – сидели и до них, и будут, вероятно, после.
Тихо. Только птицы на просевших проводах затянут песню и сорвутся, будто мать их позвала домой, ужинать. И разом тишина отсыреет в воздухе.
Вокруг двора бегает их ровесница. Один круг. Еще четверть. Вот и половина. Вот и полный второй круг.
Бежит не спеша. Мягко. Как секундная стрелка. Но отсчитывает как минутная; бежит, будто того только от нее и ждут двое на лавке да старая ива.
И новый круг начинает бегунья, а двое так и сидят.
Тени подтягиваются к ногам, уступают дорогу ночи. Темень крадет лица у сидящих в темноте. Скоро ночь растворит их в себе. Только ива будет знать, что они все еще здесь. Ива и он. Балконный мужчина. А они – нет. Они не знают, что здесь есть кто-то, помимо них. Они смотрят на бегунью и тонкой нитью соединяются с касанием пыльной дороги ее кроссовок.
Ива вдруг зашелестит. Будто глянула на часы, и тем отмерила время двоим. И он вдруг заметил свет в окнах за своей спиной…
Темно-синее небо. Ночь одной огромной тучей застлала небесный простор. Невидимая смотрит на его очертания в желтом окне. Ветки ивы отпустил ветер. И она теперь может тянуть свои руки к нему. К сыну.
Бегунья совсем близко. Ее шаги вот-вот прозвучат у него под балконом. Вот-вот коснется рука руки. А потом растворится. Вместе с тяжестью на душе прыгнувшего этой ночью с моста.