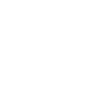1 место в номинации «Проза»-2022 (возрастная категория 25-35 лет)
Александр Филей
Медовед
12+
Радостный день. Сижу я спокойно дома, компот смородиновый попиваю. В это время стук в дверь. Хороший такой, звонкий. Так могут стучать только добрые друзья. Подхожу, открываю. На пороге Петька, старый приятель по дачному посёлку. Давно мы с ним не виделись. Вот так встреча.
— Здоров, — говорит он мне, — чего ты тут сидишь, томишься в четырёх стенах. А ну-ка давай со мной в лес.
— Куда это? – недоумеваю я, — чего удумал?
— Медоведа искать, — отвечает он, а у самого вид такой заговорщицкий, — куда же ещё?
— Что? – переспрашиваю я, — зачем нам медведь?
— Да не медведь, а Медовед, — помотал ладонью у виска Петька, — ты, наверное, не расслышал толком. В общем, даю тебе две минуты. Собирайся, прихвати с собой чаю, бутербродов и давай скорее во двор. Не медли только.
И напоследок аж подпрыгнул от воодушевления. Не каждый день таких счастливых увидишь. И вправду веский должен быть повод, чтобы так счастливиться, как Петька в тот день. Я отошёл от двери, волнуемый неясным предчувствием. Быстро заварил чаёк, налил в термос, наспех свертал бутерброды, заложил в плотную коробочку. Всё, что в лесу может пригодиться. А сам думаю – что за медовед такой выискался. Понятно, медведь, да только на него без рогатины или рожна навряд ли пойдёшь. А медовед – это, наверное, такая разновидность медведя. Или ещё какой-то неведомый науке зверь. Только Петьке-поскокышу ведомый.
— Ну-у-у – раздался нетерпеливый крик со двора, — скоро ты там.
— Се-час, — отозвался я, а у самого сердце молодецким боем занимается. Ведь задумал Петька что-то невероятное. Не может Петька спокойно на месте усидеть. Вспомнилось, что каждая встреча с Петькой в жизни чем-то необыкновенным заканчивалась. И клад они с ним искать ходили, и ужонка от вороны спасали, и даже за избушкой Бабы Яги по прилеску гонялись, да та всё равно в последний момент от них ускользнула. В этот раз тоже что-то намечается. Угу, посмотрим.
— Вот, вот он я, — выбежал на крыльцо.
Схватили мы свои котомки и понеслись в сторону зеленеющей опушки, будто унизанной изумрудными космами.
— Смотри, будь бдителен, гляди в оба, а не то проворонишь, — наущевал он меня.
— А почему проворонишь, — вдруг мне обидно за ворон стало, — тогда уж лучше сказать прогалчишь. Это галки птицы рассеянные, а вороны все собранные, когтистые, хваткие, себе на уме.
— Раз так язык распорядился, значит, так тому и быть, — рассудительно ответил Петька. И неспроста – отец у него в Академии Наук работал. Кем – неведомо мне было, но то, что в Академии Наук, это точно.
— Слушай, а нам надо было прикормку брать, — вдруг спохватился Петька, — как же медовед к нам пойдёт, если мы с пустыми руками.
— Бутерброды есть у меня, — буркнул я.
— Нет, не то, — отмахнулся Петька, — медоведу нужен мёд, на то он и медовед. Мёд пчёл лазоревых. Слыхал о таких?
— Нет, не слыхал, — растерянно промямлил я, спотыкаясь о пучок кустарника, неудачно свалявшийся у тропинки.
— А жаль, — припечатал Петька, — я тоже не слыхал, чтобы такие пчёлы в наших краях водились. Ну ничего, попробуем. Может, нас он и так примет.
В лесу и вправду было чудодейно. Сосны стояли вдоль дороженьки, размахивая тонкими руками, приветствуя нас с высоты своего исполинского роста. По ним резвились красноклювки, желтокрылки, синеголовки – причудливые птицы, голосившие вразнобой. Всё норовили нам что-то важное поведать.
— Что-то ты подавленный какой-то, — продолжил Петька, оглядываясь на меня и всматриваясь в моё лицо, — мало сегодня болтаешь.
— А надо много? – удивился я, — медовед, чай, твой тишину любит.
— Вовсе нет, — вдохновлённо выпалил Петька, — чем больше говоришь, тем ему отраднее на душе становится. Так что давай, начёсывай без умолку. Это ему понравится. А вот бессловесица глупая ему не по нраву. Так и знай.
Тут уж меня не остановить было. Я и разболтался. Правда, старался потише говорить. И о хорошем. Обиды не вспоминал. Ни к чему это было. Лес – такое место, в котором негоже поминать старые обиды. Особенно летний лес. В нём всё так свежо, зелено, такая жизнетворная энергия разлита, что я остановиться не мог. Слова звучали сами по себе.
— Вот ведь растрещался, — засмеялся Петька, — правда, воспринял как руководство к действию.
— Так ты сказал – болтай, я и болтаю, — ответил я простодушно.
— Молодец, — похвалил меня Петька, — нам ещё далековато топать, поэтому можешь продолжать.
А я уже и меньше говорить стал. Наверное, потому что смотреть больше хотелось по сторонам. Ведь в лес-то мы ходили нередко, с бабушкой, всё по грибы, по ягоды. Знали места. Правда, те походы были какие-то простые, предсказуемые. Идёшь, добычу собираешь, в туесок складываешь. А с Петькой – свобода, ощущение полноволия. Отсюда и язык бойчее становится. И движения – шире, просторнее.
— А помнишь, как мы белок приваживали? — спросил вдруг Петька.
— Было дело, — согласился я, — думали, что они нам заместо кошек будут, что приручим их. А они к дому не подбирались. В лес побежали обратно.
— А помнишь, мы с тобой ежа морковкой потчевали, — снова вспомнил Петька.
Я кивнул. Действительно, пожалели мы ежа, который беззащитно тыкался влажным гладкокожим носом нам в ладони. Вынесли мы с Петькой ему сочную морковку с дачного огородика. Он уплёл подношение и у нас на три дня призадержался. А потом в лес снова попросился. И мы его отнесли к лужочку, где он и остался.
Есть в лесе что-то своё, чистое, что роднит всякого, кто с ним соприкасается.
Добрый лес, добрейший.
— Смотри, муравьи, — остановил я Петьку, указывая на толстый ствол с причудливым, будто расписным корнем. У его подножия изысканно вилась тропочка, по которой непрестанно протекало муравьиное сообщество. И я засмотрелся, обворожённый. Не было в мире ничего мудрее и слаженнее, чем великая муравьиная семья.
— Вот бы нам всем так, а, — протянул я, не в силах оторвать взгляд.
— Нам не дано, — решительно возразил Петька, — пошли.
И я послушно пошёл дальше. Воздух леса пьянил, куражил. Солнце пекло в затылок даже через кепку. И в то же время было почему-то прохладно. Тропка весело ужилась, ведя нас вдоль густокрылого малинника, вдоль густых зарослей непонятно чего, мимо обомшелых пней, мимо сухих криволапых коряг. Сколько всего нас окружало. Можно было каждый шаг растягивать на час. Но – не положено. Дела ждали.
— А где он, твой медовед… — начал было я, но Петька поправил меня:
— Не твой, а наш. Он всех. Медовед — всех.
— Да, хорошо, — шутливо поднял я руки, но вид у Петьки был серьёзный.
Застучал дятел. Рано или поздно он должен был дать о себе знать. Я поднял глаза в поисках серенькой фигурки и загадал – найду, значит, хорошая примета. И скоро увидел его – малюсенький комочек, почти слившийся с плотным шершавым стволом. Только клюв виден, тонкий, стройный, как маятник. Вот ведь хорошо – и дятел при деле.
— Пойдём, пойдём, — непонятно кого торопил Петька.
Меня дважды не надо было упрашивать. Тропка вела уверенно. Мы долго пробирались через густеющие заросли, иногда схватывая ягоду малины, которой необыкновенно много уродилось в этом году. Она оставляла после себя насыщенный кисло-сладкий привкус. А потом косточки хрустели на зубах. Вкусно.
— Малины-ы на весь лес, — радостно протянул Петька.
Я снова кивнул и пошёл за ним.
Мы уже говорили мало, всё больше думали, гадали, смотрели по сторонам. Раньше мне казалось, что лесок этот наш придачный совсем маленький, а тут он весь необъятный, огромный. Исходить его весь не получится. Конца у него нет. И слава Богу.
— Смотри, дальше овраг поросший, — предупредил Петька, — знаю, мы сюда с одним художником, папиным другом, однажды забредали…
У Петькиного папы было много друзей. И ещё больше приятелей. Занятным человеком был Петькин папа. Он мог наизусть цитировать любой словарь. И это удивляло в нём больше всего.
— Нам придётся обойти, — сказал Петька, — но ты не бойся, я здесь обход знаю.
А чего там бояться – я не боялся. Куда бы мы ни пошли, везде выход найдём. Особенно если я с Петькой. Старый приятель не даст пропасть.
— Тут глубоко, — поднял палец Петька и спустился по крутогору, покрытому плотной сплетшейся травой.
— Смело можешь идти за мной.
Скольжение получилось резким, излишне бугристым. Но радостным. Я чуть не упал. Но удержался о Петькино плечо, вовремя мне подставленное.
— Тут так, крутовато, понимаешь, — сказал Петька, — держись.
И так мы преодолели овражек. Дальше тропки разделялись. Одна влево вела, другая вправо, третья впереди во что-то упиралась. Тут я с надеждой нескрываемой на Петьку посмотрел. А он на меня. И говорит:
— Куда идти хочешь?
А я, не подумав, бацнул ему:
— Прямо, конечно.
— Эх, прямо, — отозвался Петька, — там я сам не хаживал.
— И ладно, — отмахнулся я, — вместе и пройдём.
Пошли вместе. Всё толще деревья стали попадаться, всё зычнее что-то ухало, всё отчётливее под ногами чавкала почва. Я гляжу на Петьку и говорю ему:
— Да ты ненароком нас в болото заведёшь. Смотри, как странно под ногами делается.
Серые облака становились как будто тяжелее. Всё реже между деревьями попадались лоскутки неба. Казалось, что неделимое полотно вдруг распалось на маленькие кусочки, и требовалось много усилий для того, чтобы снова собрать его воедино. Но раз у нас такая благородная цель – обнаружить медоведа – то мы ни в коем случае не должны от неё отступать.
— Слышишь, — я дёргаю Петьку за рукав, — вон, оттуда…
— Что? – будто оторвавшись от размышлений, обернулся он.
— Что-то хлюпает, странные звуки, — говорю ему с виноватым видом.
Только бы Петька не подумал, что я испугался. Вот ещё, не тут-то было. Где наша не пропадала. И в этот раз не пропадёт. Не бывало такого, чтобы мужчины из нашего рода чего-то боялись. У меня дедушка ветеран одной войны, а папа – другой. И даже если мы заблудимся – а мы, скорее всего, заблудимся, тут гадать не приходилось – я с честью выдержу все испытания и выведу нас обоих на большую дорогу. А сам скажу, что это Петька нас спас. Правильно, всегда нужно проявлять благородство в дружбе. Иначе о чём потом в жизни вспоминать? Кроме детской дружбы, пожалуй, ничего такого серьёзного в жизни и не случается, если не считать любви.
Ничего Петька мне не сказал. Я шёл и посматривал на товарища. Он шёл себе спокойно, присвистывал какой-то знакомый мотивец, пощёлкивал прутиком по свисающим ветвям и вроде бы совершенно не волновался. В отличие от меня.
— А твой… извини, наш медовед людей любит? – спросил я, отважившись.
— О, — пророкотал Петька с видом опытнейшего знатока медоведов, — ещё как. Но только хороших. Скверным к нему лучше не соваться.
— А то что? – удивился я.
— Выгонит и даже в их сторону не посмотрит.
— А как он определит?
— Он мудрый, он сразу всё поймёт.
— А мы… подходим? – с робостью в голосе вымолвил я.
— Да, — беспечно ответил Петька, смотря куда-то ввысь и вдаль, — пока да. А потом – кто нас знает.
Пока мы судили да рядили, тропчонка-то наша совершенно истончилась, а земля стала и вовсе вязкой и липкой. Ну, понял я, зашли. Ни медоведа, ни дороги. И тут же одёрнул себя внутренне за беспочвенное паникёрство. Мы – два подростка. Крепкие, мужественные, уверенные в себе. А лес – наш друг, он всем людям друг, он никого просто так не предаёт. Это люди к нему с дурными мыслями приходят. А некоторые и вовсе лес убивают. Так что вреда ему от нас гораздо больше, чем нам от него.
— Тут надо привал сделать, — авторитетно заявил Петька и указал на тоненький полуостровочек под массивным, будто вытесанным из бронзы, стволом. Не то дуб, не то ясень, не то неведомое науке дерево.
Что же, здравая мысль. Сделаем привал.
— У меня семь бутербродов с собой, — уведомил я Петьку, но тот ни ухом ни бровью не повёл.
Я положил рюкзак под дерево и почувствовал облегчение. И правда, самое время для отдыха.
— Чай ещё имеется, — говорю я, но Петька не обращает внимание и из своей походной сумки достаёт четыре ровных овальных тюбика. А на них еда нарисована.
— Видал? – и показывает мне, чтобы я лучше рассмотрел красочные изображения. А над ними выведено красивыми буквами: «Гречка с мясом».
— Откуда? – изумляюсь я.
— Из космоса, — трепетным полушёпотом отвечает он и даже оглядывается по сторонам. Может быть, он мне сейчас какую-то тайну выдаёт. Я проникся моментом и, перейдя на такой же полушёпот, уточнил:
— Прямо… оттуда?
— Дед дома хранил. Мне дал специально. Чтобы к медоведу идти во всеоружии. Подкрепимся.
Я устыдился своих бутербродов. Куда им до тюбиков, которые космонавты получают перед полётом. Вот так Петька, вот так не ожидал. Интересно, сколько у него таких тюбиков?
Мы прислонились к древнему стволу. Я разлил чай по кружечкам. Вокруг разливались ароматы лесной сырости. Кажется, именно здесь пролегала граница между лесом и болотом. И Петька выдавил мне из тюбика снедь. Я попробовал – вкуснейшая.
— Вот это да, — только и сказал я.
— Вкуснота, — поддержал Петька.
— Может, побережём? Для истории? – скромно осведомился я.
— Побережём, — кивнул Петька, — мы только два тюбика осилим. А потом и медоведа увидим. Уже скоро. Вот там.
И товарищ махнул рукой в сторону чего-то цветущего.Там были густые заросли, но, кажется, к счастью, неболотистое место. И то хорошо. Уже очень хотелось медоведа легендарного увидеть.
Не просто так же идём.
— Посидим четверть часа и пойдём дальше, — задумчиво сказал Петька, глядя на карманные часы.
Красивые были часы. С металлической пряжкой. С толстым циферблатом. Такие часы целую вечность идти будут. Ничего им не сделается.
И мы посидели. Сколько времени прошло – кто знает. Никто ведь не считал время в те годы. Помню только, что часы Петькины так славно тикали, что я даже заслушался.
И все вокруг звуки – далёкое пение птиц, шелест деревьев, хлюпанье болота, возня танцующих лесовиков, которых никто в глаза не видел – всё слилось для меня в одно сплошное великозвучие. Тепло было на душе. И я почувствовал, что такому вряд ли суждено повториться.
— Пора, — деловито проговорил Петька, и я не заставил себя упрашивать дважды. Допил чай, поднялся застегнул рюкзак и с видом ко всему готового первопроходца отправился вперёд.
И вот удивительно – мне всё казалось, что за нами кто-то безотрывно наблюдает – и попробуй тут пойми, по-доброму или по-недоброму. Я было думал к Петьке обратиться, рассказать ему, но каждый раз останавливал себя – засмеёт ведь. Петька такой, он может.
А тропинушка снова нарисовалась. Болото и вправду прошли стороной. И на том спасибо. Не в трясине же жить медоведу в самом деле. И деревья стали выше, стройнее, и солнце над головами прорезалось, чистое и светлое. Не такое, как у нас в дачном посёлке. Другое, лесное.
Петька топал с таким же важным лицом – что тебе тот генерал. И я подумал – вот так, наверное, вышагивают будущие академики.
— А ты чего больше всего хотел, когда маленький был? – вдруг спросил меня он и повернулся. Взгляд его был задумчиво глубоким. Не всегда такой взгляд увидишь даже у взрослого человека.
— Я… — растерялся я. Что мне ему сказать?
— Ты, больше тут некого спрашивать, — улыбнулся друг.
— Ну… наверное, комплект из солдатиков.
— Э-э-х-х-, — певуче протянул Петька, — я не про игрушки. Я про жизнь. Чего ты в жизни хотел больше всего?
— Кем стать, что ли? – переспросил я, слегка нахмурившись. Не очень-то мне нравились, когда расспрашивали о самом сокровенном.
— Да, да, — закивал Петька. Видно было, что он был странно увлечён какой-то неутолимой мыслью. Нашёл время заговаривать здесь, в глухом лесу, о таких серьёзных вещах.
— Спасателем, — хотел сказать неправду я, но неожиданно для самого себя признался честно.
— О, — обрадовался Петька, — вот уж не ожидал. Я думал, что ты скажешь…
— Думал, скажу, что актёром? – как будто немного обиделся я, — хотя ничего плохого в театре нет. Меня бабушка осенью на свои постановки проводила, а я прямо в закулисье смотрел, как они готовятся к выходу, как играют. Видел то, что остальные зрители никогда не увидят.
— Вот то-то и оно, — непонятно к чему проговорил Петька, — а что полезнее – быть спасателем или быть актёром? Кем вообще быть?
— Собой, — отшутился я, но Петька снова посмотрел на меня строго и требовательно.
— Собой – это для начала, — покачал он головой, — но ведь потом так легко потеряться. Стоит только на чуть-чуть сойти с пути – и обратно уже не вернуться. А ты умеешь слушать себя?
Вот дела. Ну никак не ожидал я от Петьки – обычно смешливого, невдумчивого, таких разговоров.
— Всякое бывает, — медленно начал я, думая, что внимание Петьки само собой переключится на другое, но не тут-то было. Петька цепко держал нить разговора.
— Я не просто так спрашиваю, — печально изрёк он, — знаешь, мне иногда кажется, что внутри меня кто-то сидит. И так ласково, спокойно мне что-то внушает. А я его не слушаю. Отмахиваюсь, иду заниматься своими делами. Я об этом никому не говорил, даже отцу. Только тебе рассказываю. Я думал – это вздор, но тут недавно…
— Что недавно? – я почти затаил дыхание.
— Этот, который изнутри, говорит мне – береги себя. Береги во что бы то ни стало. Понимаешь?
— Ну… понимаю, — несколько разочарованно протянул я, засмотревшись на причудливое сплетение листьев. Я было решил, что он мне поведает про то, как внутренний голос зовёт его одолеть огнеголового дракона и совершить подвиг во имя человечества, а тут – береги себя. Сахарная лирика какая-то.
И тут вдруг я осёкся. Ведь это же всё не для шутки сказано. Это искренне.
— Подожди… А что он ещё добавил? — спросил я, обходя какую-то крысолапую корягу, некстати улегшуюся на нашем пути.
— В том-то и дело, что ничего, — развёл руками Петька, — заладил как оглашенный – береги себя, береги себя. А, и ещё – не отдавай себя попусту. Тут он, конечно, загнул – я и не думал отдавать. Только ведь чувствую, как сердце у меня яростно забилось. Так и трепещет всё изнутри, так и жжёт, почти даже больно стало.
— Неспроста, — говорю тихо.
— Что? – переспрашивает Петька, как будто замирая на полушаге.
— Неспроста сердце, — отвечаю.
— А, да. Было это, знаешь, некоторое время назад… А на самом деле совсем недавно… А если честно, то вчера.
И он посмотрел на меня простыми детскими глазами, и мне стало необъяснимо грустно, хотя спроси меня – почему – и я вряд ли смог бы точно ответить. Разве поймёшь, отчего ни с того ни с сего накатывает такая странная тяжёлая грусть, от которой плакать хочется – а не получается. Слёз вдруг резко перестаёт хватать. И слова не идут – как назло.
— Ты… только не волнуйся, — как мог, утешил его я, а самому неспокойно, волнительно. Ведь прав же этот кто-то, сидящий внутри Петьки. И просьбы его правдивые. Жалко, что мне никто так не говорит. Попробуй тут догадайся – берегу я себя или нет. Наверное, такие живые голоса только избранным являются.
— Да нечего там… — Петька встал, а потом как-то равнодушно махнул рукой и принял вид бесшабашной невозмутимости, — лучше дальше пойдём, а то медовед нас небось уже заждался. Вон, видишь, там уже просвет намечается. Правильной тропой мы пошли. А я уж даже засомневался.
И вправду – там, куда указывал Петька, лазорево переливалось тонкое свечение. Кажется, там начиналось небо. Я улыбнулся. Какие чудеса случаются. Минуту назад повсюду была глушь непросветная – а тут простор с небом в придачу.
— Давай, может, тогда ускоримся, — предложил я, но Петька обернулся и глянул, легонько сощурившись:
— Не время спешки. Медоведу нравится в людях знаешь что? Благородная медлительность. Скорых и резвых всяких он признавать не хочет. Мы должны к нему явиться точь-в-точь, как назначено.
— Кем же назначено? – ухмыльнулся я.
Петька не ответил. Я пожал плечами и решил – нечего лезть. Петька ведь умный, дорогу знает, дело понимает – и пусть, значит, с ним как за каменной стеной. А всё остальное – для таинственности. Надо, чтобы в деле была загадка – значит, так тому и быть. В конце концов, было в Петьке что-то от старшего брата – собранный, ответственный, глубокомысленный, и в то же время терпеливый и снисходительный к малознанию младшего брата. Был бы у меня такой старший брат, как Петька, я бы не пропал. Уж точно не пропал бы. Почему жизнь не наградила меня старшим братом? Или на худой конец старшей сестрой.
— Готовься, — с горящим взором молвил товарищ, — думай, что скажешь медоведу. Прямо сейчас думай. Потом не сообразишь на месте. Больно уж грандиозен.
— Хорошо, хорошо, — покорно киваю я, а сам засматриваюсь на чистый небесный холст, с которого даже облака сошли. Ничего лишнего. Вот как оно вышло – пока мы по лесу топали, вдоль болота пошагивали, небо над нами преобразилось. Мы и не заметили.
— Красиво, да, — согласился Петька, проследив за моим взглядом, — у папы приятель – астроном. Свою обсерваторию за городом оборудовал. Новые планеты высматривает. Может, слышал, статьи у него выходят.
— Слы-ы-шал, — неопределённо откликнулся я.
— А меня бескрайнее небо всегда пугало, — неожиданно признался Петька, — я бы хотел, чтобы хоть одно облачко на нём проступало. А если всё сплошь синее – как-то не по себе. Хотя всё одно – красота неземная.
На этих Петькиных словах мы шагнули на широкую поляну, которая поросла густоцветной травой. А посреди поляны – хижина-шалашонок возвышается. Из веток, камыша, соломы и мало там чего ещё. А рядом с хижиной – стог большой, весь каким-то неземным золотом отсвечивает.
Видно было, что руками кто-то мастерил. Значит, живые существа здесь, в глуши лесной, водятся.
— Это и есть…
Петька, не дослушав, зыркнул на меня и красноречиво приложил палец к губам. Я подчинился. И Петька тихо, словно боясь спугнуть собственную тень, начал подбираться к шалашонку. Я, не желая отставать, подался за ним. Необычная конструкция была у этого строения. Будто человечьих рук дело – а с другой стороны, вроде и нечеловечьих. Но в любом случае оригинально. В деревне такого не увидишь.
— Тихо ступай, осторожно, — обернувшись, шепнул Петька. Я послушно, стараясь не шуметь, шёл след в след. Неужто и вправду это жилище медоведа? Тогда медовед должен быть маленький совсем, небольшой. И, наверное, озоровик-весельчак. Невесёлые люди таких домов себе не строят.
— Может, он к нам и выйдет, — предположил Петька, — главное, что мы пришли. А если удастся с ним поговорить, то вообще замечательно будет.
— Тогда давай подойдём поближе, — робко предложил я и сам подал пример, опередив Петьку. Хоть на немного опередив. Ну не всё время же ему быть первым. Правда, тревожно-щемящее чувство страха всколыхнулось во мне. Но я умудрился подавить его. В конце концов, судя по описанию Петьки, медовед – это добрейшее создание, которого никак нельзя было бояться.
В шалашонок я заглянул первый. И обнаружил в нём мягкую охапку сена, на которой можно было лежать, а также невысокий столик – ладно скроенный, аккуратный – уставленный фруктами, ягодами и овощами. Рядом – два красивых стула с резными спинками. Оба достойны резца выдающегося скульптора из старинной мастерской по дереву. Вот где я удивился по-настоящему.
И Петька, кажется, тоже, хотя виду не подал.
— Это… нас тут так ждут, — растерянно, но обрадованно протянул я.
— Да, как видишь, — как можно более небрежно ответил Петька, хотя мне по еле уловимым ноткам показалось, что Петька явно не ожидал того, что он увидел.
— Тогда стоит подойти ближе, — предположил я.
— Подожди, — осторожно проговорил Петька.
Мы осмотрели внутреннее убранство шалашонка. Мило, уютно, как будто специально для нас. Стены были изящно сложены из берёзовых прутьев, устланы мшистыми лоскутками, а наверху изящно соединялись, напоминая индейские типи. Что же, нечего откладывать, надо пользоваться гостеприимством.
— Это нас так медовед встречает? – задал я вопрос неизвестно кому.
— Да, он, значит, нас оценил. И приметил, — со знанием дела ответил Петька.
Мы оба шагнули вперёд и присели на стулья. Они не хрустнули, не треснули. Более того – оказались очень прочными. И тотчас же притронулись к фруктам. Они были вкуснейшими. Как с бабушкиного сада. Правда, что может быть вкуснее фруктов с бабушкиного сада.
— Самого бы медоведа увидеть, — мечтательно вымолвил я, стирая сок, щедро текший по моему подбородку и, кажется, даже щекам.
— Это как знать, — с прищуром выдал Петька.
Я разочарованно обернулся к нему.
— Как это?
— Может, получится, а может, и нет. Достаточно того, что он нас так потчует. Значит, не чужие мы ему люди. Помнишь, я тебе сказал, что с иными он бы и разговаривать не стал, а с нами – так по-человечески, по-сердечному. Знаешь, мне этого и достаточно.
— Ну… — даже не знал, что ответить я. Хотелось бы, конечно, самого загадочного лесожителя увидеть.
Не зря же мы столько протопали. Вот, того и гляди, нас дома хватятся. Хотя ещё рано, но скоро обед.
Ягоды оказались такими же сладкими, что и фрукты. Божественный вкус, что и говорить. Не каждый день такие ягоды встречаются.
— Прекрасно, — протянул мой друг, облизывая пальцы, — надо бы и нам медоведу что-то оставить.
С этими словами Петька вытащил свои космические тюбики и, к моей жалости, выложил их на столе.
— Вот, пусть отведает, — решил он, — правда, он и так может позволить себе отведывать всё, что посчитает нужным. А про космос он всё знает, пожалуй, лучше нас. Он сам выходец… оттуда.
— Откуда? – у меня прямо глаза засверкали.
— Из далёких космических просторов, — вразумил меня Петька, — я тебе сразу не сказал, а надо было. Да, неземной он, медовед. И он… только ты никому, никому… нас всех охраняет с неба. Знаешь, метеориты на землю, бывает, падает, а он сидит как раз около Большой и Малой Медведиц и отводит их своей рукой от земли. И ни один метеорит на нас не падает. Это его заслуга.
— Тебе… папин друг сказал?
— Неважно, кто это сказал – потупил взор Петька, — только правда это. В наши края он редко спускается. И то, что мы первые здесь очутились, это великое счастье. Именно нас он так встречает, а не кого-нибудь другого.
Я потянулся. Приятно хрустнули кости. И взгляд мой на охапку сена устремился. Подремать бы хоть чуток. Но как тут Петька признаешься в этом желании. Фыркнет – мол, младенец, сон дневной сморил.
— Я бы… — всё-таки вырвалось у меня, — прилёг.
— Приляг, — милостиво разрешил Петька, доедая последние ягоды, — я пока посторожу. И как только медовед появится, сразу разбужу.
И я пошёл к сену. Ложусь, закрываю глаза, ни о чём таком не думаю. И вдруг чувствую – что-то жёсткое мне прямо в бок упирается. Я удивляюсь и щупаю. Это оказалась кора.
— Слышишь, — говорю я Петьке, — тут что-то есть.
— Где? – спохватился он, будто его что-то укололо.
— Вот, — достаю я кусок бересты. Большой, светлый. И сам на него смотрю – видно, древний, края истресканные, а цвет такой буровато-серый.
Мне папа рассказывал – такие грамоты берестяные в Великом Новгороде когда-то много находили. А эта какая-то особенная – чувствую, на ней что-то нарисовано. И точно – будто лицо человечье. Доброе, душевное. С глазами ласковыми. Смотрело прямо на меня – и улыбалось. Никогда таких лиц я не видел в жизни.
И тут… Петька, не говоря ни слова, подлетает ко мне и хватает мою находку – и тянет, тянет что было сил её на себя. Береста рвётся – и трещина прямо между глаз на рисунке прошла.
Ох, как обидно мне стало. Не ожидал я такого от Петьки. Пихаю его что было силы кулаком в бок. А он меня за плечо хватает и тянет. Падаем оба. Возимся в траве, мутузим друг друга. Устали, расселись, отдышались. Ищем глазами бересту. А береста куда-то подевалась, не найти.
— Вот и… — только и удаётся вымолвить мне, — и всё.
Петька молчит, сопит, как бычонок, ничего не говорит. Куда уж ему говорить.
А я, взволнованный, бересту ищу. Лицо на ней такое доброе-предоброе было изображено. А под ним даже что-то написано было. Наверное, для нас. Теперь уже не для нас.
Ищу – и не нахожу. Пропало всё.
— Дурак ты, Петька, — сказал я. И тоже замолчал. А больше говорить и нечего было.
Долго я ещё шарил руками по сену и по траве, даже коленки затекли, но ничего не обнаружил. Той бересты и след простыл. Ягоды и фрукты все оказались съедены. И больше в этом шалашике делать было нечего. Как мы дошли обратно до дому – не помню. Помню только бабушка сказала мне:
— Искала тебя по всему двору, не нашла. Куда, пострел, запропастился? – и укоризненно, по-доброму, покачала головой. Я втянул голову в плечи и ничего не ответил. Пошёл на кухню и выпил воды – много-много. И потёр ушибленную Петькой скулу. Зачем всё так?
Больше мы с Петькой в тот лес не ходили. Да и общались как-то всё реже и меньше. А потом и вовсе друг друга из виду потеряли.
***
По плотному холодному небу протекали жиденькие ручейки поздних осенних облаков. Было сыро, намечался дождь. Усталая обвислая листва была похожа на тяжёлые каменные гроздья. Похудели, осунулись деревья. Горбились дома, будто придавленные грузом. Серым покрылся асфальт, по которому нескончаемо ходили прохожие. За ними с воющим шумом устремлялись машины, перемигиваясь тускло-бурыми пустоглазыми фарами.
Я шёл по спокойной улочке, до которой не доходил дорожный визг. Вокруг валялся мусор. Грязные углы домов черновато поблескивали, а над ними выгибались прокопчённые ржавчиной карнизы. В окнах развевались хрупкие шторки, за которыми мелькали странные, печальные, как будто чужие лица.
Всё постыло. Скоро зима. Чувствовалось, что воздух стал недобрым, колючим. Пробивался за воротник, покусывал тёплую шею. В глазах от ветра образовывались слёзы. Вся природа готовилась плакать. Каждый день, каждый час сменял другой неотвратимо, с ужасающим упорством, и течение времени было не остановить.
Мне хотелось постоять, подышать осенней свежестью, но на сердце было скудно и скучно. Кто знает, отчего человека, у которого вроде всё складывается хотя бы внешне хорошо, вдруг начинает одолевать – совершенно неожиданно – скверное настроение. И такое дурное расположение духа может затягиваться до бесконечности. Ни игры любимой футбольной команды, ни покупка нового переговорного устройства, ни улыбка любимой не выводила из этого затяжного сумбурно-пасмурного состояния. Лечить такое было непросто. Может быть, только искусные врачи, способные тонко разбираться в превратностях душ человеческих, способны были исцелить такого болящего. Но эти искусные врачи пока мне не встретились.
О мои ноги просяще потёрлась кошка. Серенькая, с красновато-рыженькими проталинами на боках, с ободранным левым ухом и каким-то подломленным правым. Покормить бы, да нечем. Я виновато похлопал себя по карманам и, засунув туда руки, обнаружил лишь пару булочных крошек – не доел во время корпоративного перекуса. Жаль, кошка не птичка.
Я нагнулся и машинально, будто наспех, погладил кошку по жёсткой, вздыбленной шерсти. Та муркнула и благодарно, по своей кошачьей наивности, втёрлась в мою ладонь.
Но времени не было. Мне хотелось спешить. Я оглянулся и, смазав последнее глаженье, встал и пошёл в сторону, которая предположительно вела к моему дому. Одинаковые фасады, одинаковые углы, всё те же зелёные декорации, которые мозолили глаза с самого апреля, когда природа ожила после зимней спячки. Теперь она опять по-шатуньи ворчала, заставляя себя погрузиться в сон, повторявшийся с завидной регулярностью из года в год. И я тоже повторялся из года в год вместе с ним.
Я вышел со двора, оставив кошечку рассеянно кружиться и глядеть мне вслед с разочарованием в красивых голубо-зелёных глазах. Сейчас придёт местная бабушка и даст ей свежего филе. Мне здесь нечего больше задерживаться. Лучше быстрее домой. Завтра утром ко мне приедет Лизка, она наверняка приготовит что-нибудь вкусненькое. Давно я её не видел, а надо бы чаще. Может быть, подгадать к её приезду какой-нибудь незамысловатый сюрпризец?
Троллейбус, покладисто шурша, проплыл мимо меня, едва не задев боковым зеркалом. Из него выпали пассажиры серовато-селёдочных расцветок, и покорно подались по своим подъездам. Так заканчивался их день, так заканчивался каждый их день, и вряд ли предполагается, что что-то может поменяться. Остановка выглядела залихватски – как колоритный дворовый хулиган с задранным набекрень кепи. Я засмотрелся на странный пейзаж, будто увидев его впервые. Люди шли, пряча лица. Где-то кашляюще залаяла собака, пытаясь донести до человеческого сообщества свои заветные собачьи мысли. Я на минутку остановился у рекламного плаката, вчитавшись в аляповатые инициалы очередного поющего чуда, которое должно было к нам заехать и исполнить гастрольный номер. Вздохнул.
Я ведь сам был в чём-то как они. Сегодня вон дал два концерта для маленьких школьников, и они были счастливы, радостны и смотрели на попугая в моём исполнении с распахнутыми глазами. И в них читался восторг – моя лучшая награда, мой ценнейший гонорар. Кстати, гонорар. Наши заказчики в последние месяцы стали гораздо прижимистее. Не очень-то хотят расставаться со своими кровными ради увеселения родных детей. Впрочем, всех не раскулачишь. Приходится смиряться с тем, что имеем на сегодняшний день. Хотя мне нужно кормить свой ансамбль – рыжего клоуна Артюху, жонглёра Савку, мастера на все руки и ноги Броню и бойкую, подвижную, острокосую новенькую девчоночку Зойку. Они все были молодые и жадные до жизни. В общем, как я. Когда-то.
Надо идти быстрее. Авось начнётся дождь. Облачка-то жиденькие, да уж подсобираются. А зонтик как назло не взят. Была бы машина или велосипед, так домчался бы. Но машина тихо и безропотно ржавела в гаражике, а велосипед бесславно тлел на балконе. Так что приходилось рассчитывать на себя и на Броню, который перевозил всех на своём служебном микрике, лихо гоняя по подворьям нашего города. Впрочем, всё это лирика. Главное – это завтрашний Лизкин приезд. И вправду, почему он не озаботился тем, чтобы припасти своей единственной любимой какой-нибудь хороший предметик? Может, заглянуть в цветочный магазин. Или в ювелирный? Хотя они уже, кажется, близки к закрытию, а это значит, что сюрприз откладывается на следующий день. То есть, прошу прощения, следующий месяц. И так далее.
Подъезд, вот он, родной, надо бы скорее туда, а то ветер – щипкий, приставучий, осенний теплоед – уже слишком настойчиво забивается под воротник, а мне простывать уж ни в коем случае нельзя, потому что полетит весь график, который я себе наметил на ближайшие два месяца. А вместе с графиком, конечно, полетит и заработок. А это значит, что не получится подгадывать для Лизки сюрпризы. А это влечёт за собой определённые – и не вполне приятные – последствия. Кому нужен безбюджетный будущий муж? Такой сразу исключается из категории будущих. И становится вообще никаким. Поэтому нужно шарахаться от любого дуновения ветра во избежание нежелательных осложнений. Как на рабочем фронте, так и на личном. Вот кто из наших предков думал, что главным врагом его потомков станет лёгонький безобидный ветерок?
Скорее бы, скорее – последний внутриквартальный переход. И взяться за обшарпанную, как кожа змея, ручку. И проскользнуть незаметно внутрь, скучно воткнуть ключ в скважину почтового ящика, извлечь оттуда стопку рекламок, зазывающих в тёплые тела окрестных торговых центров. За колбасой, шпротами и всевозможными детскими принадлежностями. И за испанским беконом в придачу. Без него не клеится стол ни одного обывателя нашего времени.
Однако до ручки дойти не пришлось. Резко завизжали тормоза. Я сразу не понял, что происходит. Только почувствовал редкие капли моросеватого дождика, который начался, как я и предсказывал, ни с того ни с сего. И только потом понял, что где-то рядом встала машина. Прямо слева от меня. Я повернул голову в сторону возмутителя спокойствия. Это был чёрный, будто натёртый блестящий ваксой, автомобиль, марки которого я не понимал. Я вообще дурно разбирался в марках, и Лизка всегда посмеивалась надо мной по этому поводу. А в этот раз автомобильное существо было и вовсе каким-то неопознаваемым. Я оглядел его, но не успел сделать выводов. Медленно опустилось боковое стекло со стороны водителя. И я увидел круглое, как блин, лицо с багровыми щеками и почти тройным подбородком. Такие обычно очень любят ругаться. По поводу и без повода.
— А ну… — прирявкнул он.
Я тут же тихо вжал голову в плечи. Наверное, очень жалко я выглядел со стороны. Впрочем, мне себя со стороны и не видно. А значит, ничего страшного.
— Стой, — вдруг раздался глухой голос откуда-то из-за водителя.
И задняя дверь начала медленно отодвигаться. И отодвинулась, явив на воздух крупное тело, уложенное в аккуратное, даже изысканное пальто, над которым виднелась неопределённого лица голова – коротко, но дорого стриженная. Я почувствовал запах, наверное, очень дорогого одеколона. Очередной неслабый мира сего.
И вдруг… Нет, как это может быть… Не верю глазам своим. Голова оглянулась – и я узнал человека. Это был Петька. Да, тот самый Петька, который тогда со мной, в детстве, в нашем дворово-деревенском детстве… Господи, Господи.
— Петька, — вскрикнул я и подался к нему, распахнув объятия.
Он опешил поначалу, потом радостно улыбнулся, пошёл мне навстречу. И заключил меня в своё плотное, крепкое, будто выкованное из ваты пальто. И мне стало тотчас тепло, как давно уже не было.
— Ты, что ли… Ты, что ли… — раздалось из наших уст. И он, и я, как заведённые, повторяли эти слова, будто не понимая, что они значат. Петька наобнимался, напожимал руку, а потом леноватым барским движением отпустил своего водителя, и тот, недовольно хмурясь, откатил чёрную колымагу за подъезд. Петька смотрел на меня как на великое географическое открытие.
— Сколько, сколько лет я тебя не видел, — бормотал он важно, нахохлившись, по-барсучьи.
— Да уж, — не мог я нарадоваться.
И вдруг… зазвонил телефон. Его телефон. Сделал он это так странно – словно сова, ухающе, протяжно. Я так и представил себе ночную хищницу с выпученными до пределов глазами.
— Подожди, — сказал он командно-назидательным тоном, как в детстве, — дай-ка…
И он извлёк из своего роскошного кармана переливчатое средство связи – и деловито ткнул румяным пальцем куда-то в середину. Средство связи хмыкнуло, буркнуло, муркнуло и затихло. Кажется, даже почернело экраном. Эх, вот как оно.
— Пойдём, что ли, чайку изопьём, — предложил он первый. Я кивнул, не уставая глядеть на Петьку, который – да что там говорить – изменился до вопиющей неузнаваемости. С ним, наверное, многое всего за эти годы успело произойти. Даже за один раз не расспросить. А где, кстати, мы чай пить будем?
— Тут есть кафешка, — сказал Петька, указав на противоположную сторону улицы. А ведь он знает, где у меня в районе кафешка. Значит, он хорошо осведомлён и часто здесь бывает. Как хорошо, что Петька нашёлся через столько лет. Уж мы-то теперь с ним найдём общий язык.
Кафе встретило нас леновато-спокойной атмосферой, характерной для вечерней подготовки к закрытию заведения. Петька не смутился – подошёл к стойке, по-хозяйски положил на неё руку и требовательно попросил чаю с куском торта. Для себя и для того парня. Так и сказал. Я смотрел на Петьку почти как на невесту и насмотреться на мог. Это ведь только представить себе – настоящий большой человек.
Сели, смотрим друг на друга. Я улыбаюсь, Петька ласково и снисходительно ухмыляется. В любом случае, встреча памятная.
— А ты приосанился, — признал я очевидное.
— Раб-о-отаю, — протянул Петьку. Прямо как тогда в лесу, когда мы ходили на медоведа. Я почему-то не смог сдержаться и рассмеялся.
— Чего ты? – спросил Петька, потерев белыми пальцами столешницу.
— Да так, — не раскрыл я причины. Вспомнил всё. Оттого и не ответил прямо.
И тут Петька – неторопливо, чинно, обстоятельно – начал рассказывать о себе. Тщательно вкатывая слова-камни на поверхность условного холма, будто осознавая весомость каждого произносимого им звука. И в глазах засверкала, заискрилась какая-то невиданная ранее сталька. Я поначалу было не придал этому значения.
— …Потом работал в агентстве по недвижимости «Сатурн Ю», что на Николаевской…
Конечно, Петька со своей хваткой и лидерскими возможностями далеко должен был пойти. С самого начала это так и представлялось. Конечно, папа у него наукоёмкий человек, ретроград, слышал, что не поддержал политические изменения. И сгинул, потеряв все свои академические регалии. А сын другой, цепкорукий, не сентиментальничал лишний раз с идеалами. Надо понимать – песок с исторической арены, бывает, вымывается. И принимать это как должное.
— Там я расторговался… много домов реализовал. Дела-а-а пошли в гору. И нескучно всё было…
Слушай, так не Петьку ли пару лет назад я по телевизору видел. Правда, был тогда репортаж о каких-то крупных воротилах, которые застраивали район набережной. Что за репортаж – трудно вспомнить. Ему с его прыгучей-скакуче-поючей работой телевизор смотреть некогда. Стоит у него ящиком чёрным прямо у стены, скоро непроницаемой пылью покроется. Даже счищать пыль забывает. Если бы Лизка разделила с ним кров на постоянной основе, глядишь, пыль счищалась бы.
— Фирма большая, пятьсот человек занято… Правда, потом кое-какие потрясения начались. Сам понимаешь, времена сложные, извилистые. Сразу не подгадаешь всего…
Нет, всё-таки то был не Петька, а какой-то другой воротила. У того фамилия была другая, хотя и простая, а не вспомнить. Точно, нерусская. Да ладно, что там вспоминать. Конечно, дорога, по которой пошёл Петька – скользковатая, но зато уверенная. В люди выбился – да. Так чего же ещё надо человеку?
— И вот… немного политишкой решил заняться…
Петька коротко и сухо поблагодарил расторопную официантку, которая принесла два чая и два куска торта – малинового, вкусного. Я от нечего делать вдруг вспомнил космические тюбики. Давно, давно это было – так давно, что, кажется, и вовсе не было.
— И как? – спросил я, наверное, даже не удивившись.
— Да вот, только недавно решил, — спокойно, как будто бесчувственно ответил Петька, — там не так всё однозначно, есть свои тонкие и толстые нюансы.
И на этих словах Петька гулко, по-слоновьи, расхохотался. Хохот растревожил уютное помещение, всколыхнул массу воздуха, заставил вздрогнуть улыбчивую официантку. Странный был смех. Не то чтобы не совсем человеческий, но такой, специфический.
— И вот еду и вижу – ты идёшь. Неосторожно как-то, прямо чуть ли не под колёса бросаешься. Водитель мой как заругался, а я смотрю и вижу – ты. И что-то во мне взыграло.
Да, Петька, взыграло. Тут сомневаться не приходилось. А уж во мне как взыграло-то.
— И вот я выхожу и убеждаюсь – ты это. Вот думаю, жизнь потрепала человека. Хотя извини…
Я промолчал, потому что добавить было нечего. А кого не потрепала. Кончилось лучезарное время, каждый оказался на перепутье. И развилку вынужден был сам выбирать. Кто же виноват, что я пошёл напрямушки, а, например, кто-то другой предпочёл свернуть. Не был бы дураком, тоже свернул бы. Да прямодушие подвело. Как оно, это прямодушие, подводит, многие не понаслышке знают.
— Ты, ладно, не унывай, — самодовольно буркнул Петька, — знаешь, сейчас такое время. Удкое, рыбкое.
— Время – оно как всегда, простое время, — скромно возразил я, потупив глаза по-школьницки. Передо мной, раскуроченный, как гора песка на заброшенной стройке, грустно зиял недоеденный кусок торта, который я деликатно пощипал сверху – и оставил.
— Не скажи, — авторитетно поправил Петька, — время надо почуять. Как охотник чует зверя. И никак иначе. Разве ты сам в этом не успел убедиться?
— Н-нет, — честно ответил я, на сей раз даже не приврав.
— Да ты не волнуйся, я тебя в беде не бро-о-шу, — басовато припечатал Петька, — стоит тебе только захотеть – и не бро-о-шу. Я ведь такой – человек дела. Не чета вам, людям слова. Это, конечно, не в обиду будь сказано.
Едва Петька закончил говорить эти слова, как его рука, словно пёс, спущенный с привязи, нырнула в бескрайние глубины сереброполосого пиджака, откуда она вскоре высунулась обратно. И не одна, а с глянцево-позолоченным прямоугольником в руках. Ловким движением бывалого фокусника он положил передо мной этот прямоугольник. Я всмотрелся. Не может быть. Пётр Николаевич Вернер. Так и было написано – золотым по бурому. Что за несуразица – ведь он Васильков. Всегда был Васильковым. Васильком по-нашему. А тот, что по телеку, был Вернер. Значит, он и Петька – одно лицо. Я всмотрелся в своего друга по-новому. Лоб широкий, как лоснящийся бок рыночного казана. Лицо какое-то вытянутое, слоноватое. Глаза карие, с зеленинкой, а вот взгляд серый. Странно ведь как бывает. И выражение лица как у сильного и могучего вепря, который ощущает приближение охотников и, затравленный, со вздыбленной шерстью, всё ещё сохраняет мнимое самообладание. Необычно было наблюдать за таким выражением лица у человека, которого в последний раз видел страшно сказать сколько лет назад. И вдруг я почувствовал, что внутри меня что-то невозвратимо оборвалось. Тихо, осторожно – но оборвалось. И готовые уже слова тотчас провалились обратно – туда, откуда они вряд ли теперь высвободятся.
— Хорошо посидели, — задумчиво, будто прожёвывая пластилин из звуков, проговорил Пётр Николаевич Вернер, глядя на меня как на наскучившее приспособление, которое тешило ум ещё пять минут назад, а сейчас уже вышло из эксплуатации.
Я бездумно кивнул, глядя в стеклянные глаза своего визави.
— Вернер, — зачем-то повторил я.
— А, это, — беспечно махнул рукой Петька, словно отмахиваясь от мух, — фамилию умные люди поменять посоветовали. Что такое, в сущности, Васильков? Как-то по-простецки. Неприлично даже. А Вернер – звучит. Народ сейчас любит такое – чтобы по-иностранному звучало, по-немецки. Вот я и Вернер теперь. Как все и любят. Мои сначала прямо как ты – удивились, всполохнулись, а потом ничего, привыкли.
— Береги себя. Не отдавай себя попусту, – невпопад сказал я, не зная, что услышу в ответ.
Петька молчал, сложив перед собой руки, подобный масляно-восковой статуе, которые украшают вход в провинциальные музеи. Что делалось внутри этого человеческого механизма, понять было невозможно. Конечно, можно было пытаться заглянуть за этот непробиваемый каменный заслон. Но стоило ли – ведь увиденное отшатнёт и оставит глубокий отпечаток в самом сердце. Иногда лучше не видеть пустоту, которая может засосать, увлечь в себя.
Молчание затянулось, как поверхность растревоженного болота. Петька смотрел безотрывно в тарелку, на которой грустно коричневели крошки доеденного торта. Вот с кого стоило брать пример. Такой всё прикончит. Не то, что я – мало ли, что аппетит необратимо пропал. Вся атмосфера в кафе стала казаться холодной и неуютной. И стало отчего-то пронзительно страшно.
— Да ладно, — я первый нарушил затянувшуюся паузу, — что там поминать. Я рад, что у тебя всё хорошо. Ты всегда знаешь, где меня можно найти. Прямо здесь, на улице.
Я сыпал фразы, которые совершенно ничего не значили. Они разрывались в спёртом воздухе, как радужные мыльные пузыри, выпускаемые ребёнком в песочнице. Разве важно, что он сейчас скажет? В глубине души трепетала горесть от того, что ещё один человек на земле оказался потерян. И особенно горько было от бессилия, от невозможности вернуть этого человека. Или может…
— А помнишь медоведа, друг? Ведь мы его так и не нашли, — странно, неожиданно для себя протянул я, подобно музыканту, пытающемуся спасти зафальшивленный концерт, — а он нас тогда ждал.
Петька весь остекленел. И сделал вид, что не расслышал меня. Привычно похлопав себя по нагрудным карманам, он извлёк глянцевый телефон и мутно всмотрелся в чёрный экран, не подававший никаких признаков жизни.
— Извини, друг, мне сейчас пора, — сипло пробасил он и оглянулся по сторонам, словно ища поддержки от кого-то невидимого, — знаешь, как приятно было тебя увидеть. Даже что-то внутри всколыхнулось.
— Знаю, — машинально ответил я. Наверное, на моём месте любой мог бы ответить правдивее и убедительнее.
— Ещё свидимся небось, — смямлил Петька, хватая за ручку свою допитую чашку чая и поднося её к губам.
— Свидимся, — сыграл я роль эха, — свидимся.
За окном начинало темнеть. Жидковатые облачка слились в полузвериные формы, образуя предзакатный покров неба. Редкое движение людей на улице придавало ощущение призрачности всему происходящему. Может, мы сейчас сидим не в обыкновенном земном кафе, а находимся в параллельном мире, и наш век издевается над нами напропалую.
А может быть, это и не Петька вовсе? И на самом деле Петька – не этот, а другой, тот, тот самый, лицо которого он пронёс с собой через все эти годы. Пронёс, кажется, для того чтобы утратить сегодня окончательно.
— Я пойду, — сказал я первый, чтобы не заставлять Петра Николаевича Вернера чувствовать себя неудобно.
Встал первый.
Рукопожатие как сухой хлопок искронуло в воздухе.
На выходе я рассеянно оглянулся.
Чёрно-золотой прямоугольник с фамилией Петьки остался сиротливо зиять на усыпанном крошками столе.
Служительница кафе вслед проговорила дежурное «до свидания», и я, не останавливаясь, адресовал ей то же самое.
Как я дошёл до дома, я не помню.
Больше Петьку я не видел.
Кто знает, может быть, больше и не увижу.
А у медоведушки я с тех пор каждый день прошу прощения.
И за себя, и за Петьку.
Не могу иначе.