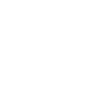1 место в номинации «Проза»-2020 (категория 18-24 года)
Александра Германович
(г.Калининград, Россия)
Погорелица
Если бы соглашаться с тем, что она потеряла рассудок, то это должно было начаться в день её переезда к невестке. А изменилось всё, что было привычно раньше и с чем ещё можно было, слава Богу, дожить до восьмидесяти шести лет, в день, когда в её медицинской карточке была сделана последняя запись. Если бы только заранее знать, как мало она была для неё значима, если бы понимать это, то не было бы никакой надобности затем объявлять её сумасшедшей.
В тот день она видела, как Оксана бросила её документы в нижний ящик комода, где их никогда не хранила, и по тому могла понять, что та не только не предполагала когда-нибудь показывать их ей, но и смотреть в них снова. Она поняла, но спросила у неё причину своего переезда к ней, на что услышала только то, что Катя уехала в Америку. Подумав, она спросила о том, что будет, когда она вернётся. Ей ответили, что и она тогда вернётся домой. Оксана разволновалась и ещё трижды повторила ей, что у неё всё в порядке и что, кроме того, в ближайшее время ей даже не нужно будет ездить в больницу. Ей же нужно было узнать только то, встретит ли она ещё Катю или её времени не достанет на то, чтобы дождаться её приезда. Оксана захлопнула дверь в комнату, в которой стоял комод, и, не представляя, как говорить с ней, вышла. Только это и случилось. Она осталась в комнате внучки в полном неведении, и в трезвый до этого времени ум её в день дальше от другого в самом деле стали закрадываться причудливые и искажающие его образы, которые оно порождало.
Должно быть, что ум плотно сопрягается со знанием, потому что всё, что остаётся вне знания, предаётся вере, за которой стоит уже иная инстанция и свободно пренебрегает той гранью, за которой смысл перестаёт опознаваться как здравый. И если знать полагается одну единицу из ряда взаимно исключаемых логикой, то вере поддаётся всё, что угодно, и всё вместе, и если заранее нет намерения верить во что-то одно, то есть если вера подменяет знание за его отсутствием, мы, может быть, действительно становимся до какой-то степени безумны. Стоит предполагать, что за верой стоит та самая инстанция, которую называют душой. Так человек, не зная ничего наверное, живёт и действует душой вместо разума. А если при этом он не имеет определённого направления и верит в благоприятное для себя так же, как в неблагоприятное, может быть, в таком случае его можно назвать душевно больным, потому что здоровая душа не верит множеству взаимоисключающих элементов. Это действительно с ней происходило.
А происходило потому, что десять лет естественной пустоты в её доме, к которой она привыкла и в которой приспособилась ровно существовать, вдруг сменились иной пустотой – окружённой возможностью своего нарушения: пустотой, которая каждую минуту могла бы наполниться, но каждую следующую минуту не наполнялась. Перед глазами у неё каждый день стояла не исполняющаяся, но исполнимая надежда. А это хуже всего: ничто не отнимает столько сил и ничто так не растравляет раны, которые уже затянулись и болят совсем редко, если их не тревожить. Нечестно было бы сказать, что они не болят совсем: в старости просыпаются все раны.
***
Оставшись одна, она села на край Катиной кровати и долго смотрела в окно. Она размышляла. И, поразмыслив, решила для себя, что не боится смерти. Что жила достаточно и что ничего существенного уже не могла сделать в жизни. Она вспомнила чемодан, который хранила в шкафу, у дальней стенки, перебрала в памяти всё его содержимое: бежевые чулки, клетчатое фиолетовое платье с воротничком и с ним вязаную кофточку, которую особенно раньше любила, чёрные туфли с маленькой серебристой пряжкой, которые обувала только три или четыре раза, белое новое бельё. Потом ей вспомнился брючный костюм, в который она наряжалась на какой-то из своих юбилеев, когда Оксана испекла для гостей торт с вишней. Затем она подумала, что брючный костюм совсем неудобен в качестве погребального. Вспомнила, что знакомая женщина говорила ей, что ритуальную одежду обычно разрезают на спине. Ей стало жаль костюма. Но в другую минуту она подумала о том, как мало значим костюм и как мало значимо всё остальное. Она сказала про себя, что ни за что не хотела бы быть похороненной на военном мемориале, хотя в среднем ящике её стола, под папкой с квитанциями и над тетрадью с письмами и открытками, слева от фотоальбома, лежал документ, подтверждавший право Оксаны потребовать там места. С минуту она сомневалась, хотела бы лежать рядом с мужем или братом. Остановилась на том, что это, в сущности, всё равно, и больше не интересовалась своими похоронами. На глазах её появились слёзы, которые она всегда стирала приготовленным специально платком и говорила обычно, что не плачет, что это только глаза слезятся от усталости, что ей вредно много читать и шить: она вспомнила о сыне. Жив он или мёртв. Как она будет ближе к нему: если болезнь её все- таки смертельна или если есть ещё несколько лет, которые она может прожить?
Её взгляд остановился на фотографии Кати. В котором месяце должна вернуться внучка, и, если она все- таки умирает, есть ли какая-нибудь надежда дождаться её? Но умирает ли она? Может быть, нет, и тогда не о чем задумываться. А одна ли она больна? Вполне ли здорова Катя? В каком она городе? На сколько часов там отличается время… Там теперь раньше или позже, чем здесь… Она задремала.
Вечером за столом было тихо. Сергей вернулся поздно, Оксана была особенно подавлена чем-то. Лиза не позвонила. Никто не говорил о Кате. Никто не смотрел на неё. Почти не ужинав, она легла спать. Скоро провалилась в пустой сон, в котором как будто было четыре чёрных стены и только, и скоро очнулась от него. Ей показалось сначала, что она снова была у себя в квартире. Даже стало слышно, как гудел её холодильник. И стало спокойно. Она выдохнула. Но в темноте проявились очертания всех предметов, и она не узнала в них своей комнаты и вспомнила, что переехала из квартиры. И вспомнила, что она умирала. Она повернулась на спину и посмотрела на стену под потолком. Она совсем не чувствовала, что уже пора было умирать: она отчётливо различала предметы, прекрасно слышала, и ей было ещё довольно легко ходить. Часто за ненадобностью она забывала измерить давление. Пару месяцев назад она думала, что умрёт, но ведь теперь она уже будто совсем поправилась. Она ощутила, что долго, долго терпела, откладывала что-то, ждала, как будто говорила себе, что потом, позже успеет ещё утешиться. И вот, видимо, у неё уже выходило время, а она всё продолжала терпеть. Ей и теперь стыдно было об этом задуматься, но как будто положено было подумать о себе перед скорой смертью. Ей стало печально.
***
До этого дня жизнь её была очень обыкновенна. Она просыпалась за час до восхода солнца. По старому радио передавали встречу со знаменитым писателем, артистом или врачом, читали новости или сказки. Утром она никогда не включала света, потому что знала на ощупь пространство внутри восьми стен, в которых тридцать лет находилась. Подходя к окну, она подолгу рассматривала фотографии под стеклом шифоньера. На настенном календаре ею были обведены все важные даты: красной пастой дни рождения Оксаны, Сергея, Кати и Лизы; чёрной – годовщины смерти её матери, отца, мужа, четырёх подруг, Риты, Анны, Настасьи и Фимы, брата, племянницы, маленькой дочки и двоюродной сестры; и синей, потому что ни красная, ни чёрная не подходили, был отмечен день, в который, когда Кате было три года, в Сургуте пропал её сын Александр. Фотографий Кати было особенно много: в левом углу стеклянной дверцы она была сфотографирована с отцом, правее – с десятимесячной Лизой, ниже – с Оксаной и Сергеем в день первого сентября, дальше – в день школьного выпускного, и, наконец, в день университетского. Ни одной фотографии с внучкой у неё не было. Ей никогда не приходило в голову, что это было так. Кажется, когда- то Оксана снимала их, но, если и напечатала фотографии, то забыла отдать ей, а может быть, забыла напечатать. Фотографий Лизы было там только две: девочка привыкла к её присутствию, но так и не привязалась к ней, и она не называла её внучкой в разговорах с Оксаной. Она никогда не любила её так, как любила Катю. И больше всего любила в ней именно то, чем она походила на Катю. Иногда она по ошибке называла её Катей, и Лиза обижалась. Она никогда не задумывалась о том, как любила Катю, а между тем любовь её была почти беспредельной. В имени Кати для неё умещалось почти всё, что существовало на свете. И утреннее солнце, и радуга, и птичья песня, и запах сирени, и ощущение ветра летом – всё было немножко Катя, и всё отзывалось в ней её образом. Кажется, она и жила тем и затем, что ждала Катю. Или дней, которые принадлежали Кате. Они играли в её одноликой жизни, как клавиши пианино: Новый год, день рожденья, Восьмое марта, Пасха, первое сентября, пятое октября (потому что Катя выучилась на педагога), и всё сначала. И хотя каждый год в её жизни становилось всё меньше Кати, а вернее наоборот, в жизни Кати оставалось всё меньше её, она продолжалась для неё одинаково. И не видя её месяц и даже однажды три месяца, она не переставала жить точно так же: просыпаться за час до рассвета, варить или разогревать кашу, идти по бульвару на рынок, спускаться к пруду; проезжая мимо, смотреть в окна школы, проезжая в другую сторону, – университета, а проходя вдоль уличных витрин, долго примерять взглядом одежду и угадывать, какую надела бы Катя. Иногда ей не приходилось говорить неделю. Иногда целый день она носила телефон в руках, потому что особенно ждала, что позвонит Катя или позвонят от Кати: один раз даже выронила его в блинное тесто, но он не утонул в нём, а только звякнул о дно кастрюли, потому что она всегда пекла себе десяток блинов. Часто вечером она плакала, но не каждый вечер и не всегда даже каждую неделю. В Новый год, дождавшись звонка, она сразу ложилась спать, а не дождавшись, засыпала с телефоном, и звонок будил её в два или три часа после полуночи, и она никогда не признавалась, что спит. В другое время она привыкла существовать одна, и привычка ограждала её от осязания одиночества. То, что было кроме Кати, что было до Кати, она тоже помнила, но это было уже очень далеко, и уже как будто можно было поспорить, было ли оно с ней же. Она помнила очень ясно. Помнила детство, родителей и войну, помнила даже то, чему училась и какие книги читала. И могла читать до сих пор, но не читала потому, что то, что она хотела бы прочесть, писалось не в книгах. Её жизнь была тяжела, но не тяжелее других таких же жизней: всё это было посильно. Состарилась она очень покорно и точно вовремя, как по часам: как только ощутила, что другие перестали нуждаться в ней совсем, а она стала в них сильнее. Тогда она тотчас тихо отступила назад, в свои восемь стен, и всё время до этого дня обитала в них и смотрела оттуда за тем, как они жили. Она никогда не жалела ни жизни, ни детства, ни молодости, а понимала, что для всего время наступает и проходит и что всё должно быть именно так, как есть: что для неё есть её квартира, для Оксаны есть её дом, а для Кати есть целый мир, потому что теперь пришло её время. И также что одни люди должны быть более, а другие менее богаты, что одним дано жить много, а другим мало, и всё, что подобно этому. Она журила старух, которые этого не понимали, и никогда не просила всего, что было ей нужно. Двадцать последних лет всё было обыкновенно.
***
А теперь, в самый день переезда к Оксане, всё вдруг изменилось: жизнь её перенеслась в другое место, выстроилась в другом времени и стала на себя непохожа. Она вдруг оказалась в пространстве Кати, где всё вокруг принадлежало ей, всё напоминало о встрече и обещало встречу, но встречи не наступало, и, более того, она была здесь теперь именно потому, что ей уже не предполагалось наступить. Она всегда помнила, что стара и что потому ей предстояло вскоре умереть, но смерть ещё и тем не страшила её, что она не сомневалась, что там, у самого её порога, обязательно будет Катя. Ведь должно быть, что именно в тот, последний день, у неё как будто будет больше права на всё в жизни и на саму жизнь. А теперь всё нарушилось.
Неделю она просыпалась и засыпала в Катиной комнате, не спрашивая себя о внучке. Она терпеливо ждала симптомов того, что умирает. Их всё не было. Вечером восьмого дня ей стало страшно. Почему-то она решила для себя, что проживёт ещё три месяца. И теперь ей стало страшно, что Катя вернётся хоть на один день позже. Всё стало неправильно: Кати не было дома, и её не было в её квартире. Здесь стояла такая же тишина, но там она точно знала, что Катя здесь, а здесь она знала ужасную для себя вещь: что Катя в Америке. Она знала, как далеко находится Америка, у неё был атлас. И на стене Катиной комнаты, как нарочно, висела карта. На столе стояли её фотографии, не такие, как те, что были у неё, и оттого лицо Кати казалось на них ещё действительнее, чем на тех. Она каждый день просыпалась и видела фотографии, и у неё перехватывало дух от мысли, что она не увидит Кати. Каждое утро она гадала о том, как вечером спросит Оксану о дне, в который Катя вернётся. Она представляла себе, что ответит Оксана. Она скажет: «Катя взяла билет на четвёртое декабря». А лучше она воскликнет: «Как ты не знала? Она прилетает через три дня!» Это показалось ей слишком скоро. «Катя прилетит через месяц».
Она лежала, открыв глаза и не вставая, чтобы не разбудить Оксану утром в воскресенье, и представляла себе чемодан, с которым прилетит Катя: что он замотан в прозрачную плёнку, а ручка его выдвигается. Почему-то он рисовался ей в красную клетку. Может, теперь в моде красная клетка? Катя войдёт на порог с холода, в шапке… в синей шапке с американскими буквами. В прихожую пахнёт её духами. Лиза ещё не вернётся из института. Оксана привезёт её из аэропорта и будет закрывать во дворе ворота и машину. На цепи будет рваться и лаять собака. И она тихонько выйдет из комнаты, станет перед ней и будет на неё смотреть. А Катя подойдёт к ней в обуви, в сапогах с каблуком, и обнимет её, некрепко, одной рукой, как она и раньше её обнимала, и она ничего, ни слова не скажет ей, что умирает, а скажет только, что так ждала и так счастлива, что она вернулась, что этого невозможно сказать. И потом, когда все войдут, тихонько пойдёт в комнату с комодом, возьмёт за руку добрую Оксану и попросит остаться ещё только на три дня, чтобы посмотреть на Катю. И не в её комнате, а на диване на кухне. А если нехорошо и на кухне – то в предбаннике, в подвале, где летом укрывали от жары собаку. И Оксана, сама радостная, что дочь наконец вернулась, позволит. И вечером все будут сидеть за столом, говорить и пить красное вино, смотреть фотографии, а она будет слушать и смотреть на Катю. А когда будет время уходить, то попросит Катю распечатать на принтере, на который она не поставила пузырька с валерьянкой, как хотела (потому что помнила, что на него неправильно ставить, ведь разве она не понимает), её фотографию из Америки, чтобы было так, как будто она и в Америке была рядом с Катей; и тогда уже она уедет обратно в квартиру, и там спокойно ляжет и умрёт, когда будет нужно, ведь почему бы не умереть тогда, когда будет уже ничего не жалко, когда она будет так счастлива. Так она представляла.
Но потом вдруг всё в её голове рассыпалось. И Оксана уже отвечала ей с раздражением, потому что ей и самой было больно вспоминать об этом вслух: «Что ты, разве не знаешь, что Катя приезжает через пять месяцев?» И ужас охватывал её. И она уже видела, что через три месяца она лежит и умирает, а Кати нет. И у неё уже вышли все силы, и она не может подняться, а всё-таки лежит и считает дни, и старается дышать и смотреть на свет, чтобы только как- нибудь дотянуть, дождаться Кати. Но не дожидается и умирает. И не чувствует запаха духов, ворвавшегося с холода, и не видит, синяя ли шапка у Кати, в красную ли клетку у неё чемодан. Не видит лица Кати, не может прикоснуться к ней – и никогда не может. Уже никогда ей не дождаться Кати, этой встречи не будет! Вот она лежит и не может от беспокойства точно представить себе звука её голоса и уже не услышит его опять. Всю жизнь, со дня рождения Кати, она ждала как будто какого-то особенного дня, когда она всё время до самой ночи пробудет с нею. Прошло двадцать девять лет, а день этот не настал и никогда теперь не настанет. Какой ужас объял её! Ей показалось, что не было ничего хуже за всю её жизнь, что война не была страшна так, как мысль об этом.
***
Она села на диване и стала плакать в ладони, тихо, чтобы не разбудить Оксаны. Но Оксана не спала и слышала. Она решила, что та плачет оттого, что всё угадала, от страха смерти. И ей стало не по себе – дрожь пробежала по её спине, и она закуталась в одеяло и прибавила громкость на телевизоре. Целый день она не могла набраться смелости подойти к Оксане, а Оксана не решалась войти к ней, чтобы только не нужно было говорить с ней о смерти. Потому что Оксана ужасно боялась смерти.
А к вечеру она не могла больше терпеть: надежда и отчаяние вместе теснили её мысли, оба предчувствия, и радостное, и тяжёлое, обуревали её. Она решила окончательно, что хочет и готова знать, что её ожидает, что слаба и не в силах выдержать необходимости угадывать то, что не может знать. Уже перед тем, как лечь, Оксана вошла к ней и о чём-то заговорила. От волнения она не могла расслышать её слов. Она стояла напротив зеркала, у которого лежала расчёска, и, тоже взволнованная, водила ею по распущенным пшеничного цвета волосам. Она следила взглядом за движениями её руки и всякий раз заново повторяла про себя вопрос о том, через сколько месяцев должна вернуться Катя. Оксана отложила расчёску и посмотрела на неё прямо, чтобы ответить на вопрос, который, она не сомневалась, она угадала правильно. Совсем готовая слушать ответ, которого так просила, она ощутила, как внезапно задрожало её сердце. Против своей воли она сжалась, точно бы доли секунды отделяли её от размашистого удара, мгновенно поднесла обе руки с ладонями, полусомкнутыми в кулаки, к лицу и застонала от страха, но тут же одёрнула их и посмотрела прямо перед собой, полагая все силы на то, чтобы с собой сладить.
Твёрдо смотревшая на неё до тех пор, Оксана отвернулась и, ничего не сказав, вышла из Катиной комнаты, оставив её одну. Она увидела, что та всерьёз боится, и гадливая жалость, которая тоже не даёт иногда нанести последний удар обезоруженному, самому подлому человеку, её оттолкнула. К ней снова вернулась поглощающая неопределённость, которой не находилось способа избегнуть. Снова сильнее зашатались почти устоявшиеся весы, которые должны были открыть ей её участь. И снова стало тихо. Она легла на постель и лежала, не двигаясь, как будто только что проснулась от кошмарного сна и не поняла ещё до конца, что увидела. Подумала, какая дурная неделя это была и как хорошо будет, когда всё разрешится и кончится, когда Катя наконец будет дома, и всё станет по-прежнему. От страшной усталости она тут же заснула.
Ей виделись во сне осень и день, в который она вела маленькую Катю в школу. Опавшие листья покрывали дорогу, и фонари, уже уставшие светить, едва мерцали желтоватым светом, который терялся на фоне рассветного неба, хотя ещё было пасмурно. После этого сна она открыла глаза и посмотрела в потолок. Потолок и тот показался другим. Тот был светлее. А этот вдруг стал совсем чёрным. Она подумала только, куда ушло то радостное, светлое время, когда Катя была ребёнком, когда её маленькая, самая важная на свете, жизнь была где-то внутри общей жизни, когда вместе с её рукой она удерживала всю эту жизнь. А теперь как будто демон материи щёлкнул своими чёрными пальцами, и всё обратилось, и она уже даже не знала иной раз, как подступиться к Кате и как говорить с ней: о чём прилично её спрашивать и что особенно лишнего следует о себе умолчать. Так и казалось ей иногда нужным назвать её Екатериной Александровной, как её называли чужие, потому что она уже не только не принадлежала им, а была выше их, и даже будто нужно было бы теперь спрашивать её разрешения на любовь к ней. Всем своим существом – всей своей личностью она уже всех их превосходила. Одна любовь к ней не изменилась, а будто следовало и ей перерасти в степенное уважение из ласки. А как ей было?
Пока была одна, она мучительно вспоминала, что делала не так, что сделала лишнего, а чего вовсе не сделала для Кати. Она ждала: когда закончится пугающая неопределённость, когда Оксана проснётся утром и не поедет на работу, а станет собираться в аэропорт, покроет стол новой скатертью и достанет праздничные свечи. Ждала, когда звякнет замок калитки, когда кто-нибудь, проходя мимо неё, скажет кому-нибудь, что Катя вот-вот приедет. Она отзывалась на каждый шум и слушала каждое слово, но ничего не происходило. Несколько раз Лиза в темноте заходила в Катину комнату взять что-нибудь, и спросонья издалека ей казалось, что вошла Катя, и она подхватывалась ото сна и опускалась обратно на подушку, и редко могла снова заснуть. И сны её стали тоже беспокойны и болезненны. И она сама ощущала, как слабла.
***
И месяц спустя она спала и снова видела во сне Катю. Точно бы она приезжала откуда-то или уезжала куда-то. А она всё бежала за ней. Сначала по дороге, потом уже будто по шпалам, и всё не могла поспеть. И как будто в руках у неё был чемодан, который она забыла, а потом она посмотрела лучше, и то не был уже чемодан, а была меховая шапка, ни к чему не нужная летом. И она кричала ей: «Катя! Катя!» А все на перроне смеялись и выглядывали из вагонов, и уже будто кто вышел прогонять её с рельс. И она всё ничего не могла разобрать и смотрела на дорогу. На платформе будто стоял мужчина в синем костюме, с синим же дипломатом, и с жестом досады взмахивал на неё руками и точно бы скалился от нетерпеливого негодования. И особенно страшным ей показалось его совсем обыкновенное лицо, как будто всё собранное из толпы: как будто он сам был толпа. А потом будто кто-то протянул ей руку и увёл – будто добрая женщина вся в чёрном обняла её и покрыла ей плечи шалью, и в той шали всё растворилось совсем, и она плакала и благодарила женщину, и скоро уже ничего от них не осталось, и всё исчезло.
Она проснулась, а за окном было ветрено: рябина качалась, и все ее опавшие ягоды, алые, как кровь, покрывали под ней дорогу. Опять со стола смотрела на неё маленькая Катя. И ещё сильнее, чем прежде, она потянулась к ней, ещё страшнее ей стало от мысли, что она не дождётся. Мысль эта как будто больно ударила её плетью. Но она не верила мысли. Она поднялась и оделась, взяла в руки телефон, достала из сумки записную книжку, принесла со стола очки. Вышла на кухню и налила в кружку воды, оттого что у неё пересохло в горле. Под окнами проехал грузовик, и много шуму ворвалось из-за штор. Она получше закрыла окно и дверь в комнату. На заднем дворе залаяла собака. Она накинула кофту и вышла кормить её. Вернулась, вымыла и вытерла насухо руки. Достала из ящика зарядный шнур от телефона и включила его в розетку. Наконец, набрала по очереди каждую цифру из книжки, закрыла её и положила на колено. Она почти никогда не звонила Кате: никогда, если она сама не просила ей позвонить или выполнить какое- нибудь поручение. Телефон был, но для неё он работал всё больше в одну сторону. Она смотрела на него с ожиданием, носила в руках, перекладывала с места на место, но почти никогда не решалась кого-нибудь им беспокоить. Она снова выдернула шнур, потому что он никак не доставал до уха, и уже хотела нажать левую кнопку, но ей стало страшно вдруг, что Катя не станет с ней говорить, или не отзовётся, или гудков не будет. Руки её задрожали, и она заплакала, и совсем отключила телефон, и вырвала вилку, и пролила на грудь и на колени воду из кружки, и уронила под ноги книжку, и совсем растерялась и обхватила себя руками. Потом вдруг она подумала о том, что в Америке теперь может быть ночь и другое совсем не удобное для звонка время, да и разве Катя сама не позвонила бы ей, если бы только могла. Она убрала всё на место, снова села на кровать, и ей вспомнилась женщина, что утешила её на перроне. И была ли в самом деле такая женщина? Где можно было найти такую? Она уже совсем растеряла её черты, только тёмная шаль крепко удержалась в памяти. Она потёрла друг о друга озябшие ладони. Она не знала уже определённо, хочет ли знать, может ли. Ей хотелось только услышать Катю. Узнать не то самое, узнать другое: хорошо ли Кате, где Катя.
Весь вечер она ходила вокруг Оксаны, как будто ждала, и в самом деле ждала, когда зазвонит её телефон. А он молчал. И Оксана смотрела на неё и молчала. Когда же она ушла в комнату с комодом и закрылась на ключ, она слышала, как Оксана говорила с Катей. Она прижала ухо к стене, стояла молча и слушала, и слёзы текли по её щекам: она не слышала, а вспоминала голос внучки, он звучал для неё из памяти. Договорив, Оксана вошла к ней и сказала, что Катя звонила. Увидев её слёзы, она повернулась, чтобы идти; она и сама понимала, что делала нехорошо, что плакала, а не могла уже не плакать. Как тоже ребёнок не плачет, если его оставили одного и не показываются минуту или две. А после плачет, потому что верит и боится, что его навсегда оставили. Она отёрла слёзы рукой, выпрямилась и тихонько сделала шаг от стены.
– Я не стану, Оксаночка, – она сказала, скомкав на груди руки, как будто ими хотела удержать от слёз душу. – Можно и мне? Отвернувшись от неё, Оксана ответила, что звонить очень дорого, что Катя сама позвонит ей, когда будет время, что у неё всё в порядке и что она о ней спрашивала. Но она слышала, что не спрашивала. Катя не знала, что она здесь. Оксана боялась сказать ей, чтобы не говорить причины, боялась и не хотела, чтобы всё расстроилось – она понимала. Она сама не хотела ей помешать. Но она ощущала уже, что есть большее, чем тоска: есть совершенно определённая необходимость чьего-то присутствия. Она борола необходимость, но и необходимость борола её. Так тоже бьются росток и бетон, и живому дано одолеть искусственное, и ничем нельзя удержать его. А не есть ли безумное только живое, которому не позволено жить?
***
И в середине второго месяца она спала и видела, будто Катя сидела в стеклянной башне, за которой видно было другие небоскрёбы, и крохотные машинки внизу, и дым заграничного города, и воду. Как будто она сидела за столом в таком кабинете, где повсюду лежали бумаги. И видела себя на пороге того кабинета, не внутри – не снаружи, и тотчас, как она вошла, Катя будто бы поднялась уходить, как Оксана.
– Не надо, не надо, Катенька! – она будто бы говорила ей. – Я сейчас же умру… то есть сейчас же уйду! Не надо. Она проснулась одна, оделась, вышла из комнаты и встала на середину дома: ей показалось, что даже стены вокруг молчали. Слышно было, как за окном пузырились от дождя тёмные лужи. И собачьи глаза не смотрели на неё из конуры – пёс спал. Она стала бродить по дому от стены до стены, на которых тоже висели фотографии. Она смотрела на них рассеянным взглядом, как будто не могла узнать, кто на них, а сердце её больно ныло, точно придавленное – как будто на тонкие струны гитары кто-то взгрузил валуны. Она тихонько опустилась на плитку на колени и стала смотреть на дверь, как будто вот-вот кто-то должен был войти в неё и не входил. Десять и двадцать минут никого не было.
Вдруг среди холодного дыхания улицы и всех предметов в доме, и морозного тока её крови, и промозглой пустоты её мыслей, в которой инеем кристаллизировались воспоминания, она ощутила будто бы тепло живого огня в камине: оно коснулось руки от плеча до кисти, дохнуло сухим мягким жаром на её правую щеку. Она стала озираться вокруг и искать огня и не видела. Она вполне ясно представляла, что сидит на полу в пустом доме, где нет камина. Но холод от представления о нём стал ощущаться сильнее: уже каждая её кость будто бы лежала на песке, омываемая севером моря, и солёная вода будто бы проникала в сердцевину каждого сустава, наполняла каждую клетку, и вот она же так мертвенно текла по щекам. От неё уже простыло всё внутри, и от неё душа, именно душа, очень болела, как будто её стягивала судорога, плотнее и крепче, прямо между рёбрами и сердцем, точно и там было натёрто солью. Она молилась Богу, Который обещал быть с ней всегда, Который, значит, должен был быть, и плакала, ощупывая каменные, будто из непокрытого кирпича, стены и пол, под которым, кажется, дышал такой же окоченелый бетонный фундамент. Ей было неизъяснимо, безудержно больно, и в безголосой агонии этой боли она искала тепла, любого его источника, и умоляла о нём, прижимая себя к камню. Точно старое дитя, она лежала на полу и плакала, простирая в пустоту перед собой бессильные руки. Редкие, как будто ещё не выросшие, белые волосы её были растрёпаны и помяты, коротко и кругло состриженные ногти скреблись и проскальзывали о гладкие налощённые доски, когда она судорожно сводила ладони в плаче, чистые голубые глаза, утонувшие в красных, полупрозрачных, исполосованных морщинами веках, не могли сосредоточить взгляда в аффекте не видимого никому горя. Сколь мало рассудка ни было в этой картине, она была не более безумна, чем отчаянный плач младенца, к которому в несколько минут, что, может быть, протянулись для него в вечность, не подошла мать, который ощутил и пережил в это время всё, что угодно, что привело его в такое же исступление, какое постигло Софию. Но дитя не предвидело, а она могла ощущать, что никто уже не придёт к ней. Что только Господь стоит здесь же, над нею и, может быть, тоже плачет.
И хорошо было бы ей отречься и проклясть всё разом – тогда вокруг неё выстроилась бы точно определённая целостность, и душа захлопнулась бы от мира, и мысли бы обратились вспять, и не стало бы необходимости постигнуть, в чём заключалась суть её теперешнего положения в этом доме, и прошла бы надобность знать, что ещё происходит в нём. Но она не хотела проклясть ничего, что любила. И не могла потребовать ничего, чтобы спасти себя, и потому разговор, который мог окончиться в несколько минут, тянулся уже шесть недель и тянул за собой в её сознание ужасное нагромождение из домыслов и догадок, предположений и предчувствий, которые оттеняли воспоминания настоящей, не изуродованной кощунством старости, страшной единственно тем, чтобы стать слишком старым, чтобы любимым ещё можно было замечать в тебе человека, жизни, в которых от душевного измождения она против своей воли начинала заблуждаться. Она поднялась на ноги, вошла обратно в комнату, закрыла за собой дверь, и снова легла. Слышно было, что дождь кончился.
***
Ещё через восемь дней она услышала, как Оксана говорила с Сергеем о Кате, о Калифорнии и о том, что Катя была в больнице. Она сначала разобрала эти слова, потом поскорей отодвинула их и стала слушать опять, и опять уверилась, что именно так и сказали. В сердце её точно вошла насквозь холодная спица, она стала в ужасе озираться по сторонам, как будто хотела что-то найти вокруг. Затем затаила дыхание и долго смотрела в одну тёмную точку на закрытой двери и молча моргала. Оксана расстелила постель и ушла мыться. Стало слышно, как о стекло застучала вода. Она вышла из комнаты и встала у двери, и стала смотреть в темноту. Выходя, Оксана наткнулась на неё и спросила, отчего она не спала. Она смотрела ей в глаза и не отвечала. Оксана хотела идти, но она коснулась её плеча и тихо спросила – что Катя. Оксана ответила только: «В больнице». Как будто удовлетворившись этим и испугавшись спросить больше, она ушла спать и, не закрывая глаз, просто лежала на спине, смотрела вверх и зачем-то перебирала в голове стихи, которые помнила, потом пословицы, потом рекламы, как будто так и положено было проводить ночи. Поднявшись утром, она стала читать при лампе. Читала долго и не замечала, о чём читает. После обеда она стала сидеть у входной двери и, когда Оксана вошла, спросила тотчас, где Катя. Стянув сапог с ноги, Оксана ответила, что Катя ещё в больнице. Она спросила затем, когда она будет дома и когда уже будет совсем здорова. Оксана строго посмотрела на её измождённое лицо и сказала, что всё в порядке, что Катя жива и будет совсем здорова, и не велела ей больше спрашивать. Она не стала есть и снова ушла спать, и в каком-то оцепенении действительно спала ночь.
Проснувшись утром, она посмотрела в окно: за окном всё было хорошо и было ясно. Значит, она решила определённо, и у Кати всё хорошо: значит, нет повода и совсем неприлично переживать и плакать. Она уверилась в этом. Она вспомнила, что в доме закончился сахар, оделась, обулась, взяла свою сумку и дошла до магазина. Без ошибки нашла и донесла до кассы пакет сахару. Достала отсчитанные деньги и уже хотела подать их кассиру, как все рассыпала: монеты поскакали на железный прилавок и на пол, зазвенели и закрутились. Она извинилась и принялась собирать их одеревенелыми пальцами. Выходя из магазина, она столкнулась с женщиной в дверном проёме. Та обругала её. Она подумала только, как могла с ней столкнуться, ведь, кажется, она шла совсем к ней не близко. На пешеходном переходе она, не заметив, вышла на красный свет, все машины засигналили, белый мерседес едва увернул нос и с протяжным криком умчался от неё: она как могла быстро отшагнула обратно на тротуар. Уже у самого дома снова она перегородила дорогу машине и остановилась напротив и смотрела на неё две секунды прямо и не могла понять, что это стоит перед ней. Внутри она отругала себя за рассеянность, вошла в дом, заперла двери, достала из сумки и рассмотрела со всех сторон пакет с сахаром, пересыпала его в банку осторожно, просыпав два раза, может быть, треть чайной ложки. Закрыла и убрала банку и хотела уже достать ужинать, а перед тем, как положено, переодеться, но всё-таки, как только вошла в Катину комнату, села на диван. Она думала: можно ли ей позволить себе слабость заплакать или так, ничего не стоит здесь слёз, ведь всё хорошо. Она решила, что не станет плакать, ей раздумалось. Она забыла переодеться, дошла до ванны, оперлась на раковину, и вдруг противоположное прежнему чувство подсказало ей, что нужно позволить себе заплакать. Комок встал у неё под горлом, железная точно бы мясорубка медленно закрутилась в животе. Она сделала над собой усилие, чтобы выступили слезы, потому что в то самое время несколько минут, она думала, нужно было поплакать, и всё бы совсем отпустило, и она бы совсем уверилась, что плакать нечего. Но она уже будто и так уверилась, что нечего, уже ни минуты не сомневалась и хотела идти, и опять раздумала плакать, ей даже пришло в голову, что раз ей не говорят ничего о Кате и раз с нею не говорит сама Катя, то она как будто и не должна переживать о ней, ведь как это можно, раз она не хочет… как вдруг незаметно и неожиданно для себя она рухнула под раковину на колени, и глубокий крик вырвался из её груди, переполнив её, и слёзы полились и закапали часто-часто, так, что застучали о пол, когда крик стих. Мясорубка завертелась скорее и скорее, а в грудь как будто полился солёный кипяток, она вся скрутилась, лёжа на полу, и стала кричать, как будто ей было телесно больно. Прошло пять, и десять, и пятнадцать минут, а она все лежала на полу, сотрясалась от плача и истинно выла, как воют от адовой боли звери. И всё в ней было тогда несообразно и некрасиво, всё всклокочилось на ней, всё стало неприлично естественно, как не было принято. Слезы и стоны, то низкие, то высокие, как плач ребёнка, то короткие, как будто под рёбра ей входила острая арматура, то долгие, как будто тупыми ножницами кто-то бороздил её чрево. Она рыдала и думала, она ли это рыдает и отчего. Перед глазами у неё носились страшные образы: и она видела не лица, а буквы, как будто читала медицинский словник. Чем была больна Катя? Что там случилось с ней? Слова бегали от её взгляда, а она уже и без того мало их помнила, и все приводило её в исступление боли. Она слышала её голос – это было самое важное, самое лучшее. Но что произошло? Чем опасно то, что произошло? Что ей угрожает? В котором месте ей больно и как сильно? Что делать? О чем молиться? Нельзя ли поехать… Да нет. И говорить с ней нельзя. Отчего? Что от неё прячут? Ничего, это только она надоела, потому с ней и не говорят. А чего не говорят? Что случилось? От этих-то мыслей она вопила, как будто огонь разверзался под ней. Она рыдала и думала: да, её не хотят: ей нельзя подойти и нельзя обнять Кати, нельзя заговорить с ней, нельзя даже и позвонить. Не надо: всё это можно снести, от этого плохо не Кате, плохо только ей самой, всё это не стоит плакать. Но не знать, что происходит с ней и знать, что с ней что-то происходит: этого нельзя вынести. Бежать на самолёт, лететь теперь же в Америку… Так ведь нельзя и лететь: нельзя появляться. Она потому здесь, одна, что никто не хочет, чтобы она появлялась рядом. Это должно быть нехорошо к ней, обидно. Да, если бы можно было обидеться. Забыть, что была эта жизнь и была Катя. Ведь сколько лет она унимала свою тоску о ней. Но ведь теперь не то: теперь ей плохо, а если ЕЙ плохо, как можно найти в СЕБЕ какое-нибудь успокоение? Что же делать? Как ей помочь, когда она и не хочет её помощи… Как знать, что с ней происходит, когда она запрещает ей знать… Как жить, не знаючи, как дышать, как обороть эту страшную резучую боль, от которой душа заходится в груди, от которой кровь леденеет? Не страшно, если бы всё пропало, сгорело и не было больше. Но Катя – это не всё… это больше, чем всё… это Катя. Можно казнить её, можно убить топором или даже камнем, можно запереть и не кормить, если она никому здесь не нужна, можно жить, как если бы её вовсе уже не было, как теперь и живут, всё можно сделать с ней, и всё это ничего, всё это она сейчас же простит и уже простила, но нельзя не сказать ей о Кате, не может быть столько жестокосердия на земле, чтобы оно покрыло и эту её муку. Все ангелы где-то там, где высоко, где справедливо, плачут об этом и простирают к земле свои крылья. И Богородица плачет там. Это не то, что болезнь, пытка, голод и смерть. Этого никому нельзя вынести… – она думала. – Господи, прости! Господи, защити Катю! Если бы смотреть на стрелку часов, что висели в прихожей, пока она плакала и кричала, то можно было бы знать, что прошло тридцать шесть минут. А на тридцать седьмой минуте вошла Оксана.
Она ничего не могла понимать. В висках у неё стучало, во лбу было горячо, а в ногах холодно. Она смотрела на Оксану и взглядом умоляла её говорить, хотя уже не могла бы слушать. И уже не могла сама ничего выговорить. Ни о чём не спросив её, Оксана помогла ей подняться и дойти до кровати, вернулась в свою комнату и достала из деревянной шкатулки невскрытую упаковку таблеток, принесла для неё одну и, потому что она не могла удержать её, подала её с ладони и вышла, и скоро она провалилась в тяжёлый сон, в котором ей виделся лес.
***
И в лесу том тот самый мужчина в костюме, который прежде был на перроне, опять подошёл к ней и говорил:
– Я всё знаю, всё знаю, гражданочка. Я рассуждаю по закону: хочет ли вас Катя? Не хочет. Можно ли так убиваться, гражданочка, рассудите по закону, можно ли так страдать. – По закону нельзя, – будто бы она отвечала.
– Совершенно нельзя! А ведь к тому же нужно прибавить, гражданочка, что вы сами больны и, более того, умираете. Не следует ли прибивать? – Следует.
– А к тому ещё, что и вы ведь такой же точно человек, как Катя? Такой же, гражданочка? По закону. – Такой же.
– Стало быть, если вы больны и умираете, а Катя, наиболее вероятно, не так больна и, практически определённо, не умирает (так же, гражданочка?). Ведь не следует вам переживать о ней, а следует ей о вас. – Может быть, даже следует.
– Так! А если она нисколько не переживает о вас (ведь нисколько?), то вам самим следует переживать о себе. По закону, гражданочка! А о ней – не следует. Это всё не годится. И пусть её, и что она вам? Вас не осудят! По закону! – И не надо мне по закону, – как будто она вдруг заговорила, и человек в костюме вытаращил на неё свои круглые синие глаза. – Не надо закона, и вовсе я не такой же человек, как Катя, а всего-то я. И не нужно, чтобы она переживала, и умереть мне не жалко. Она – Катя. И все здесь не по закону… А по сердцу, гражданин. По сердцу. Тогда человек в синем костюме будто бы совсем ополоумел, занёс над ней синий дипломат и даже как будто оскалился, и стал кричать: – Пусть её! Себя спасай! По закону!
А она кричала:
– По сердцу! По совести! Ради Христа! По любви!
И тогда только он как будто весь надорвался своим дипломатом, и отшатнулся от неё, и повернулся прочь, и она проснулась.
Всё в ней болело: ещё болели виски, и уже болело сердце, и кости болели сильнее, чем раньше, и кончики пальцев болели какой-то особенной электрической болью. И она подумала вдруг, что если бы послушала мужчины в костюме, то ничего бы теперь не болело. Ей показалось, что никогда за всю свою жизнь она не слышала такой мерзкой лжи, какую он нёс. «Она – то же самое, что Катя». «Не любить Кати, потому что Катя не любит её». «Не страдать о Кате, а спасать себя». И ужасно было в этих словах именно то, что снаружи они так похожи были на правду. Но её никто бы не мог провести. Она внутри себя знала, что они были – ложь. И потому радость взяла её о том, что ей было больно, что она не послушала лжи.
Наутро, уезжая на работу, к ней вошла Оксана и спросила только, болит ли. Она ответила, что болит, та дала ей вчерашнее лекарство, и она снова уснула.
Ей снилась большая светлая палата заграничной больницы. Точно бы там теперь был вечер, и за окном стемнело. Белая койка, поставленная перпендикулярно стене, и на ней Катя. У изголовья её стояла Фима и смотрела на дверь, ожидая, что она войдёт. Фима утонула двадцати трёх лет. Она хотела уже испугаться, увидев Фиму подле Кати, но Фима молчала и улыбнулась ей добродушно, и посторонилась от койки, и она посмотрела и увидела, что с Катей не плохо, что она читает при свете и что лицо её розово, и глаза не больны, и что ничего, что пугало её, с ней не случилось. Она хотела подойти к Кате и раздумала и опять посмотрела на Фиму.
– Ничего, Соня. Ничего. Не бойся. – Как будто Фима сказала.
И глаза её были такие добрые: ей жалко было Сони, и взгляд её как будто строг был и к Кате, и к кому-то за её спиной, кого не было видно. И она проснулась.
***
Через шесть дней ещё Оксана вошла к ней утром и сказала, что Катя дома. Она не пошевелилась: слёзы потекли у неё из глаз, и она смотрела в потолок и ровно дышала, и ничего не могла отвечать. Когда дверь закрылась, она притянула рукой маленькую икону с тумбочки, которую привезла с собой, перед которой молилась, и положила на грудь. Хотела произнести слова благодарности, хотела перекреститься, и сил не стало. Она ощущала, как будто что-то сгорело в ней. Всё отпустило, спицу точно бы вынули из сердца, но на месте её осталась рана. Шесть дней назад она думала о том, как бежала бы к Кате, если бы только могла попасть к ней в Америку или если бы она вернулась тогда. Как долго не могла бы отпустить её, на неё насмотреться. Как плакала бы и как радовалась бы ей, точно больше даже, чем в утро её рожденья. А теперь лицо её стало ровным и строгим: губы сжались, и взгляд натянулся какой-то пустой глубиной. Она ощущала вместе с тем и то, что любит её теперь ещё больше, смотрела внутрь себя и не могла увидеть предела этой любви, но и ничего другого там уже тоже не было. Теперь она знала определённо, что умирает. Половина её вопроса разрешилась сама собой: уже нельзя было сомневаться в этом. Но важна была не та половина.
Она лежала целый день и заснула в полночь.
Ей снилось теперь, как будто она шла вслед за Катей. Стояла зима, и воздух был сухой и морозный. Катя не смотрела на неё, а шла впереди, ни разу не оборачиваясь. Вот они уже вышли на площадь, где стояла ёлка, такая высокая, как пятиэтажный дом. И вокруг собирались люди. А ей было как будто очень холодно. Она посмотрела на себя и увидела, что шла совсем нагая, от того и было холодно, а особенно ледяной ей показалась земля, на которой лежала, как снег, белая испарина тумана. Тогда она увидела вдруг, что стоит уже последи площади, что все люди, что собирались, стоят уже вокруг неё и все замечают её, тычут в неё пальцами и смеются. И Катя тоже стоит среди них и тоже смеётся. И ей нельзя выйти оттого, что все стоят вокруг неё кольцом, точно это она – ёлка. И она не знает, над чем они смеются, что она нага, и ей неловко, стыдно и неудобно не понимать. И мужчина в синем костюме, с синими глазами и синим дипломатом стоит будто бы слева от Кати и машет им и кричит:
– По закону не запрещено смеяться, граждане! По закону можно!
И уже не только смеются над ней, а уже бросают камни… и не камни, а куски льда бросают, и по-особенному глухо они ударяются о размякшее тело. Так все стоят спиной к ёлке, и только она видит её и видит, что ёлка накренилась и падает прямо туда, где они стоят и где стоит Катя. И она подхватывается и кричит: «Катя, уходи! Ёлка!» И все заливаются до того громко, что нельзя уже разобрать её слов. И Катя смеётся громко. Тогда она подбегает к ней и оттягивает её за руку в сторону, и все возмущаются, а Катя отталкивает её, и она падает, и ёлка падает на неё. Она лежит и видит, что её придавило ёлкой, что она умирает. А Катю не придавило: она стоит в стороне и цела. И она улыбается, и всё дальше от неё уносится гневный голос синего мужчины: «По закону нельзя улыбаться, когда придавило ёлкой! Не разрешается, гражданочка! Неприлично! Нарушаете!» А она уже умирает, и ей всё равно, что неприлично. Она думает, не запомнят ли, что Катя оттолкнула её, не накажут ли Катю. И она уже не слышит своего голоса, а зовёт мужчину и кричит:
– Я сама упала, гражданин! Оступилась! Я сама оступилась!
И уже ничего нет больше.
***
Проснувшись, она болезненно поднялась и посмотрела в окно. Несколько звёзд пробивалось сквозь серую темноту неба. Перед глазами у неё ещё стояло лицо Кати. И больно, и радостно ей было его видеть, и страшно, страшно, страшно не видеть вновь. Всё смешивалось у неё: то, что было, то, что есть, что может и что должно быть.
Страшным показалось ей всё: и дом, и пространная темнота в нём, и закрытая дверь Оксаны. Ей захотелось к себе домой, захотелось услышать хриплый с присвистом голос радио и дребезжащий шум старого холодильника. Всё разрушилось в тот же час, как она пришла сюда. Она подумала, что если её не будет здесь, может быть, всё каким- то непостижимым способом станет на место снова, и сюда вернётся Катя. Она оделась и накинула на плечи пальто, собрала свою сумку, положила туда же валерьянку, очки и икону. Тихонько открыла дверь ключом, что висел у порога, заперла её снаружи и оказалась за нею. В нос ей ударил зимний запах холодной мокрой дороги, и она по памяти пошла к дороге, и пошла по дороге. Она оглянулась на окна дома, и ей показалось, что скоро, утром, в них уже загорится свет, и Катя будет. Она уже плохо помнила, куда нужно было идти, чтобы попасть домой, и шла по дороге прямо. Она помнила, что и за поворотом стояли такие дома, а уже дальше, после поворота, дорога выходила к остановке. Мерклый свет фонарей проливался на ноги, и она видела, как белая линия на дороге скрывалась и появлялась под сапогом. Почему-то ей думалось, что она идёт очень правильно и что именно положено идти по линии, а не как-то иначе. Вдруг свет от фонаря стал очень ярок. Она обернулась, и он ударил ей в лицо, ослепил её. Она попятилась от фонаря и хотела заслонить его свет руками, а фонарь вдруг заревел, стал судорожно хвататься за дорогу и сбил её с ног. Упав на землю, она тут же всё вспомнила: это не фонарь, а машина, и она по рассеянности перегородила ей путь. Ей стало стыдно. Но теперь уже поздно было: несколько окон в домах засветилось, из мерседеса вышел человек и встал над ней. Она успела понять только то, что не вернётся домой, что всё перепутала и растеряла. Калитка Катиного дома открылась, и в ней показалась Оксана, в куртке, наброшенной на ночную пижаму, испуганная и растревоженная ею. Она отвернулась от неё и застонала от стыда. Хотела закрыть лицо руками и вскрикнула.
***
Через три дня она опять уже стояла у окна Катиной комнаты и видела, что в небе висело пол-луны, и тучи то находили на эту луну, то отступали. Она почувствовала, что не может больше стоять и не может здесь быть. Ей опять хотелось метаться, выйти и сделать ещё хоть одну попытку уйти назад, к тому, что было, если и нельзя сказать, что хорошо, то все-таки не так карикатурно. Но теперь уже нельзя было. Она уже не только умирала, но и была неспособна дожить без постороннего участия то, что ей оставалось. Она вспоминала лицо медсестры, которая встречала её в кабинете. И руки врача. В них что-то особенно драгоценное ей показалось, для чего как будто не жалко было руки, которая уже, наверное, не срастётся, потому что из тех трёх месяцев, что она думала, что проживёт, уже оставались неполные три недели. Ей вдруг стало совершенно непереносимо. Ей показалось, что это всё было вроде острова, и она была одна на острове, и никто не знал, что были и этот остров и она. Но ей не приходилось сомневаться, что она была. Ведь если её нет, кто чувствует эту холодную боль; чья она? Но в ту же минуту она и усомнилась в себе: ей показалось, что существование подтверждается только извне, снаружи. То есть она не думала именно так, но имела в виду; что можно знать достоверно, что ты есть, только если кто-нибудь другой скажет это или, по крайности, к тебе обратится. Рука ещё очень болела, и от того немножко меньше, казалось, болела душа. Она думала, когда стала такой беспомощной. Каким- то комом всё вдруг накрутилось и стало так странно. Она вспоминала, как в детстве, когда лежала с ангиной, в комнату заходила мама и приносила тёплое молоко, и гладила её по голове. Вдруг, чуть ли не в первый раз за всё время, она решительно отошла от окна, достигла и перешагнула порог спальни Оксаны и остановилась там. Она подняла глаза.
Не жалкая старуха, а именно старая женщина, которую было жалко, с её рукой в гипсе, с её красными буроватыми даже веками, бледным лицом и узко раскрытыми на неё глазами там стояла.
– Что ты? Или болит?
– Болит, – она ответила.
И тогда вышла, и от разговора этого ей как будто стало терпимо.
Она заметила вдруг, что совершенно забыла, как ощущается тепло человеческого тела. Ещё недавно она могла его приблизительно представить, а теперь представления уже не было. Ей было жалко: даже не столько себя, сколько всех, кто был таким, как она. Жалко Оксану: какие утомлённые глаза у неё были. Как она, должно быть, тоже скучала по Кате, как ей тяжело было жить рядом с ней и знать, что она умирает и умрёт, а она останется и будет помнить, что она здесь умирала. И помнить также, что и она умрёт когда-то. Как ей тоже, наверное, было страшно. Как она тоже, должно быть, помнила Александра и ни с кем не решалась заговорить о нём. Как переживала за Лизу. Ей хотелось подойти и обнять Оксану. Она тихонько опять прокралась к двери. Слышно было, что за ней уже спали. И она уснула.
И снилось ей, что она говорит:
– А я же убила кого-нибудь, Оксаночка.
А Оксана будто бы ей отвечает:
– Что еще? Кого ты, Соня, убить могла.
– Убила, знать, кого-нибудь. Ребёнка, может быть, убила.
– Хватит тебе городить. Какого ребёнка ты убить могла?
– Не знаю. Бог знает. А было, значит, это когда-то, Оксаночка. И поделом же мне тогда. И ещё мало мне за все.
– Иди отстань с этой ерундой. Дурная же, правда! Ну что ты? Чего тебе плохо? – Не плохо, родная, а… больно, так… как сказать нельзя. Как яду всё равно хлебнула или чего. А ты прости меня, Оксаночка.
Тогда Оксана как будто смотрит на неё с жалостью и болью, а потом отворачивается опять и из-за спины говорит:
– За что тебя прощать?
– За все прости. Что я так… тут… рядом… надоела. Прости ради Бога!
– Да и что ты сегодня? Иди! И надоела же сегодня правда!..
И она хочет идти, а Оксана будто бы её окликает:
– Да постой! У Кати хорошо всё. В обед звонила. А ты таблетки прими, которую я тебе на столе пластинку оставила.
Услышав о Кате, она будто спрашивает её, заглядывая ей в глаза:
– Так что же?
– Что?
И она хочет спросить прямо и правильно, и не может говорить оттого, что глиняный точно ком встал поперёк горла, а она знает, что никак нельзя теперь заплакать. И знает, что уже до конца не спросит. А что, между тем, всё уже известно всем, и всё где-то там у них уже разрешилось. И Оксана вдруг будто отвернула от неё лицо, бросила тряпку на стол и ушла, потому что сама плакала.
Или в самом деле было всё это?
***
И ещё неделю спустя она опять стояла у окна и чувствовала, как холодная кровь бродит тихонько по жилам и как тоже талая серая вода стекает в ливневку у дома. И думала только, что так не может быть, а есть. Как и солдат видит перед собой пушку и слышит грохот от залпа, и вдыхает дым, а не может понять до конца, что пушкой может оторвать от него и часть, и половину, и оторвёт. Здесь же Катя. И у неё перед глазами Катя. И она вдруг не увидит Кати. Кати! Она не понимала уже ничего, что делалось. Ей казалось, что всю её жизнь, все её существо, вывернули из земли, как старое дерево, и листья его медленно чахнут и отпадают, и сломанные ветви болят, и бессильные корни ударяет жгучим морозом, но долго-долго ещё они не иссохнут, и жизнь не выйдет из них совсем. Ей страшно было жить, страшно было увериться, что так, как она не может помыслить, будет. Она хватала из памяти то одни, то другие куски, и старалась за них держаться. Если бы только она могла знать до отъезда Кати, что будет так… А что бы она сделала? А ведь она очень плакала перед её отъездом, а Катя смеялась. Перед взглядом её мелькала и снежная зима, и зелень деревьев над полем, и старая деревня, и морда собаки. Весь мир, точно насмехаясь над ней, проносился мимо, но она уже не хотела видеть.
Она плакала, долго плакала, и не верила, что ничего уже нельзя будет поправить. Вот ведь она, круглая Земля, и вот она, далёкая Америка. Пусть, что она далеко, но ведь можно туда добраться. Можно упросить Катю, разве когда- нибудь она была с ней жестока? Разве если бы знала всё, она бы не пришла? Катя!
Она чувствовала, что дрожит: как от страшного холода, дрожит от боли. Она жила долго и долго и не знала, что это бывает. Она смотрела перед собой и не видела ничего: и впереди, и в стороне, и за спиной ничего не было. Она хотела позвать собаку и вспомнила, что та ночью сорвалась с цепи и сбежала. Она спустилась в подвал, принесла и сложила шалашиком перед собой брёвна для бани. Она не могла больше думать, а только представлялось ей, что теперь будет камин, и будет опять хорошо: станет теплее. Она стала искать, чем бы разжечь камин: ей вспомнился комод в комнате Оксаны. Она принесла и положила в середину, под поленья, свою медицинскую карту и подожгла спичкой: жёлтые странички на глазах истлели, объятые в пламя, и толстая, как её жизнь, корка книги обуглилась, и она не подумала даже заглянуть в книгу: в ней было написано только о ней – она была для неё совершенно неценна.
Было слышно, как в замке железной двери повернулся ключ, и в коридор вбежала Оксана. И только посмотрев на неё, она поняла, что бесповоротно потеряла теперь и то, что оставалось у неё до сих пор: надежду и говорить с Катей, и возможность слышать о Кате, и даже фотографии Кати, и те она потеряла. Оксана смотрела на неё с яростью и страхом, как на чужую, и ей было больно и стыдно, и она, как безумная, бросилась к её ногам, и Оксана в ужасе отпихнула её. Над плиткой погасло пламя костра догоревшей бумаги, и она, тихо поднявшись, сама подошла к железной двери и стояла там.
Внутрь ворвались люди. Её левую руку загнули за спину и затянули поясом её же халата. В сумку наспех побросали её вещи, её вывели из дома, усадили в машину и увезли. Оксана по-прежнему не произнесла ни слова. Она уже решительно ничего не могла разобрать. Ей только было очень жалко, всего и всех, и сбежавшей собаки.
Её усадили в комнату с окном без ручки, кроватью на колёсиках, стулом с прорезью в середине и часами, в которых заело секундную стрелку. Зачем-то рядом с ней положили и телефон, в котором почти три месяца уже не было сим-карты. Кроме того, дверь за ней закрыли на ключ.
И сонная медсестра написала в шапке истории: Погорелова Софья Алексеевна. А она была Павлова.
***
И там она не спала, а слушала, как в отзвуках длинного коридора до белой двери палаты доносились разные имена. Какая-то писклявая старушка вопила из палаты, расположенной ближе к двери: «Викуля! Олежек! Олежек!», как будто потерялась в лесу. Сиплый мужской голос ещё дальше от неё точно барабанной очередью повторял, не прерываясь, имя Люды. Другой, тоже мужской, звал Лену. Три или четыре разных голоса время от времени возникали в воздухе и один протяжно, другой резко, а третий совсем тихо, точно уже засыпая, звучал: «Мама!» Хор чьих-то имён, живых и мёртвых, беспорядочно поднимался в ночи и затихал снова. А к середине ночи всё стихало, всё опускалось в какое-то небытие, где им уже не было больно.
А женщина, что лежала в палате напротив неё, никого не звала, а целую ночь считала трёхзначные цифры, то, видимо, проваливаясь в беспамятный сон, то возникая опять, но никогда не сбивалась. Она лежала и думала, когда стала такой, как они, и когда перестала быть прежней. И ей не страшно было быть безумной, если её предпочитали такой считать, а страшно было подумать, что все те, чьи имена звучат и ударяются об эти холодные стены, наверняка никогда не придут сюда. Если они звучат, значит, их не было давно-давно, и верно можно знать, что уже не будет. И ей хотелось позвать Катю. Не затем, что она правда думала, что та может прийти, а только чтобы рядом с ней прозвучало ещё её имя и чтобы вокруг поняли наконец, что всё было не то и что никто до сих пор не слышал, о чём она их просила. Она не произнесла, не произносила его даже шёпотом, потому что чувствовала, что имени внучки здесь не место, и потому верила, что она всё-таки придёт, приедет к ней, вернётся, ведь она ждала так долго и ждёт так сильно. Она не была безумна: она не могла забыться. Она была там всё время и каждую секунду времени. И в память ей врезалось, как в одно утро, её соседка вдруг проснулась от голоса медсестры, уставила на неё взгляд, по щекам её потекли слёзы, и она застонала:
– Господи, ты услышал мои молитвы! Ты приехала ко мне, моя родная! Наконец ты приехала! Я дождалась тебя!
Она тянулась, чтобы поймать её руку, а та стояла со шприцем в руке и смотрела на неё из утренней полутемноты ровным взглядом.
– На чем же ты приехала, дорогая? На поезде?.. Ну, чего же ты не говоришь со мной? Я так давно не слышала твой голос!
А женщина в белом халате сунула иглу ей в плечо и так же ровно сказала: – Это медсестра. Медсестра. С кем ты меня спутала?
А она ещё не сошла с ума.
– С дочкой… Я думала… она… приехала.
Старая женщина повернулась обратно к стене и долго-долго беззвучно плакала, только слышно было, как тонкая струйка воздуха входит и выходит со свистом через её сжатое горло.
***
А она приехала. Она прошла по длинному коридору и заглянула в окошко палаты, к которому сидела спиной больная. Она едва не протянула руки к двери, но её остановил тот же голос в белом халате, который сказал:
– Она, может быть, не узнает вас. Вряд ли вам стоит сейчас входить. Она всё время смотрит на часы и не оборачивается, когда кто-нибудь входит. Ещё утром она бредила. Думаю, – она сказала, – её сознание уже далеко, и она нас не видит.
А она только и сказала утром: «Пятнадцатое февраля. Девять часов тридцать пять минут вечера в Калифорнии». Она считала время.
Может быть, болезни и сопровождают старость потому, что только с ними возможно пережить её, а иначе боль самой старости, этот холод, уж слишком выступит, так, что совершенно нельзя будет терпеть его и эти уродливые огарки жизни. А тем помогает болезнь, что заставляет думать о себе, а только сам человек никогда, и в старости, не может от себя отвернуться. Болезнь заставляет смотреть на себя, внутрь себя, и не видеть, как разрушаются все прочные прежде связи, как болящий перестаёт уже быть человеком и становится только болящим. Перестаёт любить и сострадать и уже только страдает и требует сострадания. И во всём этом не замечает, наконец, минуты, в которой мог бы узнать, что его уже нет для тех, для которых он жил. И не успевает подумать ужасную вещь: что, может быть, по-настоящему, его для них не было. И плохо одно: что не всегда и болезнь может спасти от ужасной трезвости души, которая вообще неохотно слепнет и не желает смотреть на себя, а всё любит. И до конца любит.
Открылась входная дверь, и от сквозняка в приоткрытой палате распахнулось окно. Ей почудился запах Катиных духов в воздухе. Она встала и подошла к двери: в коридоре было совсем пусто. Тогда она одёрнула шторы и встала к окну, как дома, и долго смотрела в одну точку на улице. В точке этой вдруг появилась фигура девушки. Она отдалялась. И она была Катя. Лицо её, точно как в прежнее утро, не изменилось. Она молча смотрела вниз, туда, где светило зимнее солнце, и ровно дышала.
В ту минуту ей вспомнилось, что три месяца уже давно было. Отчего же она жива, и кто знает тогда, сколько она проживёт? Кто знает, придёт ли ещё хоть когда-нибудь Катя? Только Бог. Она стала молиться Богу. Она подумала: через пять лет стоит её дом, ходят люди и ездят машины. И ёе уже нет. Её там нет. Там, где она не нужна. Как ей легко и спокойно не быть там. В последний раз перед глазами её мелькнул мужчина в синем костюме, с синими глазами, галстуком и дипломатом. Потому что она отдала всё. У неё ничего не было? Именно. Она именно отдала всё то, чего у неё не было. Отдала своё несовершённое право иметь это. Она больше не хотела знать ответа о Кате. Он был у Бога. А Бог был у неё. Она легла на пустую, незастеленную кровать, и долго лежала в полудрёме и не хотела очнуться.
И там ей виделось, как будто Катя подошла к ней в своём полосатом вязаном свитере и смотрит на неё, ничего не понимает и спрашивает, как спросила бы маленькой: – Ба, что ты плачешь? Ну что ты? Ба?
И она смотрит на неё и понимает, что она ничего- ничего этого не делала, ничего этого не хотела. Просто она – Катя. Она молода, и ей не видно оттуда, с высоты ее молодости, её жизни, и неведомо, что кто-то может так тосковать о ней. Что кто-то вообще может так тосковать на свете. Она – Катенька. Она ни в чём не виновата. И нет и не может быть никого лучше, и добрее, и ласковее её на земле. И так неизъяснимо полно и высоко одарил её Бог тем, что Катя была и что она знала и могла любить Катю. И только бы Он берег её и не дал знать никогда, о чём плакала Соня, только бы Он открыл и отдал ей всё самое лучшее, что есть, и только бы её, Сонины, страдания Он учёл Кате, а не ей самой, чтобы ей никогда уже не нужно было страдать, и тогда-то всё будет совершенно, и ничего не будет для неё лучше этих страданий. И тогда не страшно больше не видеть Кати. Потому что, не видя её, можно, можно её любить. А больше ничего не может быть нужно.
Но она ещё смотрит на неё, и взгляд её беспокоен, и губы не говорят ничего и сжаты. И тогда-то ей видно всё, и всё так просто, что нельзя было не угадать этого. Смертельно просто. И за Катиной спиной как будто возникает Оксана и молчит тоже. И она вдруг понимает всё, и ей вдруг становится жалко их больше. Она смотрит на Катю, тихо, особенно, в изнеможении стойкости, и точно бы говорит ей:
– Я всё знаю, всё знаю, Катенька. Никогда. Уже никогда. Я люблю тебя.
И всё разрешается: как будто тяжёлые цепи распадаются на куски, и, как змеи, уползают из виду. А кроме цепей, ничего опять нет на ней. И она стоит уже не перед Катей. И ей вспоминаются тогда слова Иова, какие он говорил Господу. «Вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, — теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду». И она тоже отвечает Ему, отвечает ещё тише, чем Кате, так, что одна за одной обрываются в её сердце все струны, так, как из-за границы своего существа, которое в этих несносимых муках не могло жить и умерло:
– Ей, Господи.
И она отпускает Катю идти и видит, как Катя уходит. И ей ещё немыслимо, но уже не страшно. Она садится на край кровати и ждёт, когда-то перед рассветом опять появится перед ней милое лицо Фимы, когда-то добрая женщина покроет её своей чёрной шалью, но уже не спрашивает, не смотрит и не говорит больше – как только и можно покориться Ему, когда Его промышление запредельно для человека, когда то, что дано ему, сильнее его, когда больше нельзя вынести.