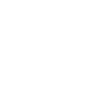1 место в номинации «Проза»-2019 (категория 16-20 лет)
Полина Зайцева
Невесомость
Если вдруг вам случалось проходить в прошлый понедельник по главной улице в районе четырёх часов, в вашей голове невольно пронеслась мысль, насколько изящно и опрятно, несмотря на муторность первого дня недели, выглядит женщина, без особых усилий держащая осанку, стоя на стоянке такси в ожидании. Вы могли заметить мастерски уложенные светло-русые волосы, лёгкий макияж, прикрывающий пару шальных морщин от любопытных взглядов, блузку, пиджак, юбку, но что важнее прочего – лакированные туфли на низком каблуке. Чистые, блестящие, без единой царапины.
Кидая взгляд обратно на лицо женщины, вы глубоко разочаровались. Темные очки прятали глаза, и вы никак не могли представить, какие они – какого цвета, какой формы. О чем они думали?
И с этой последней сконфуженной мыслью вы бы заторопились дальше по своим делам, так и бросив загадку неразрешённой в мусорный бак, не подошли бы, смущённые и заворожённые, к женщине, от которой так и веяло Жизнью. Ее образ всколыхнулся бы в вашей голове разок перед сном в тот же пасмурный понедельник, через пару месяцев в каком-нибудь парке, на дорожке для бега или в автобусе, а может, в обувном магазине. Женщина бы засела у вас в голове без собственного ведома, как делают это многие прохожие, но, в отличие от них, она сама никого не замечала, не оборачивалась и не вертела головой по сторонам, как это сделали вы, проходя в прошлый понедельник в районе четырёх часов по главной улице. Она устремила взор вперёд в ожидании, спокойном и уверенном, как у античной статуи.
Но, пройдя мимо, вы бы не увидели, как женщина, едва заметно вздрогнув, сунула руку в сумочку, вынула телефон, наклонила голову, приспустив очки, чтобы узнать, кто пытается дозвониться. Увидев, она плотно сжала губы, как сжимают уголки бумаги в оригами, потянулась свободной рукой к причёске, чтобы поправить несуществующий изъян. Прежде ровное дыхание пошатнул резкий выдох через нос, и женщина, что-то прикинув в мыслях и глянув на часы, поднесла телефон к правому уху и устало потёрла переносицу.
Эта женщина – моя сестра.
Когда скрипнула ручка входной двери, у меня закружилась голова. Телефон экраном вниз упал на пол в нескольких метрах от меня, как будто пару секунд назад, но, похоже, прошло больше получаса с тех пор, как я решилась ей позвонить. Пыльный матрас под озябшим телом не удерживал меня от тошнотворного ощущения неконтролируемого полёта. У меня кончились силы. Я не могла встать и поприветствовать ее, зато представила, как ее силуэт с некоторой медлительностью пробирается через коридор в спальню в ожидании самого худшего.
Она сжимала в руке запасные ключи от моей квартиры, которые я дала ей давно, когда только заехала, до тех пор, как все это началось. Тогда я молилась, чтобы ей не взбрело в голову воспользоваться ими, если с мужем что-то пойдёт не по плану– одна мысль о ее соседстве рассыпала мурашки по коже.
Ей пришлось брести на ощупь – я вынула лампочки, наверное, неделю назад, не помню зачем. То и дело слышался отзвук небольших каблучков. То и дело она спотыкалась о стопки книг и всякий хлам.
Резкий звон в ушах помешал мне услышать, что происходило в следующие пару секунд. Оркестр в голове не замолкал, раз за разом бездарно разыгрывая какофонию истощённого организма. Озноб и дрожь лишили меня возможности что-либо воспринимать.
Звон умолк.
Скрип занавесок. Значит, она уже успела войти в спальню. До сих пор ничего не сказала, хотя, скорее всего, я просто не услышала. Непривычно яркий свет, незваный, что она запустила, слепил даже сквозь закрытые веки. Пару мучительных, протяжных мгновений она разглядывала меня, безвольно раскинувшуюся на полу.
Почувствовала над собой её тень, но никак не могла заставить себя открыть глаза.
— Прости, — я еле слышно шевельнула губами. Сестра не подала знака, что услышала меня. Бережно просунула руки мне под спину и подняла с матраса, словно тростинку. Моя голова откинулась назад прямо к окну, веки чуть приоткрылись. Я чувствовала слабый запах дорогого парфюма, ее страх, который она смело сглотнула, от моего жалкого веса и лакированные черные туфли, так неестественно официально и ярко выглядевшие в этой комнате, оставленные на подоконнике.
Тарелка супа или таинственное варево, от которого мне хотелось спрятаться в шкаф, требовательно устроилась на кухонном столе, наскоро вымытом, а от сильного овощного запаха у меня слезились глаза, так что за миром я наблюдала сквозь водяную пелену. Струйка дыма танцевала в пыльном свете. Тогда любая еда казалась отравой, но суп еще хуже – он выглядел не просто ядовито; враждебно.
Сестра носилась туда-сюда по квартире, расстилала себе кровать в гостевой комнате и попутно начинала уборку. Иногда она заглядывала, чтобы засунуть мне в рот ложку без лишних церемоний и исчезнуть в дверном проёме, шурша коробками и пакетами.
— Соседка отлила нам полкастрюли супа и одолжила чистое белье и лампочки, — рассказала сестра, уже распустившая волосы. Она сматывала их в небрежный узел, удерживая резинку одним мизинцем. Невидимки скопились на кухонном столе, ее расчёска уложилась сверху – так маленькими деталями она наполняла квартиру своим присутствием.
Я слабо кивнула и попробовала самостоятельно отхлебнуть супа. Чуть не подавилась. Горько.
— Не ешь слишком много за раз, а то стошнит, — кинула она из соседней комнаты. Переодевалась в домашнюю одежду, которую предусмотрительно оставила в прошлый раз. – Завтра с утра я съезжу за вещам и вернусь.
Горьковатый суп булькнул, пока я водила по его поверхности ложкой, мол, с тебя хватит.
— Ты собираешься остаться? – я замерла. Её тень скользила по стенам, заболоченным книгами и изрисованными холстами. В моей квартире она выглядела нелепо. Или, скорее, моя квартира нелепо выглядела, окружая её.
— Конечно, — она на какое-то время покончила с вознёй в комнатах и приземлилась напротив меня за столом.
Семь часов вечера, а на улице лёгкая морось. Кот вылез из коробки на шкафу и потёрся сначала о ногу сестры, а потом и об мою. Она медленно встала, со скрипом отодвинув стул и подошла поближе ко мне, чтобы глухим голосом спросить:
— Почему?
Если бы можно было все проблемы человека представить одним словом, это было бы оно, вырвавшееся из ее уст в пасмурный понедельник уходящего апреля. «Почему?» — кому она задала этот вопрос? Едва ли на него был хоть какой-то явный ответ.
От него и от требовательного голоса сестры я впервые за долгое время ощутила дикий, первобытный голод, от которого скрутило желудок. Спираль вращалась в груди и медленно уничтожала временное спокойствие.
Мне хотелось сказать что-то красивое, что-то, что привычнее видеть на бумаге, чтобы не выглядеть заброшенной и беспомощной. Только язык не поворачивался, а мысли путались в клубок глупых оправданий.
Я открыла рот, чтобы всхлипнуть. Я не знала причины, да и не пыталась выяснить. Стало холодно, и я обхватила себя руками, вздрагивая от рыданий. Кот жалобно замяукал в другой комнате. Сквозь слезы я провыла:
— Он голодный, — сестра пошарила по шкафчикам и откопала большой мешок кошачьей еды. Убежала, сверкая голубыми носками, и за ней раздался звук падающего в миску сухого корма.
Она быстро вернулась. Я ещё корчилась в непрерывном плаче, и все равно увидела растерянность, отразившуюся у неё на лице. Наверное, она тоже хотела заплакать, но не могла себе это позволить.
Не то что светловолосая семилетняя девочка, которая носилась по всей квартире, периодически совершая драматические набеги на мою комнату. Она могла устроить истерику по любому поводу и без повода. Ходить с красными глазами, чтобы добиться желанной игрушки или заставить родителей выполнить просьбу. Выставить меня виноватой в спорной ситуации. Я не могла представить её плачущей в одиночестве в каком-нибудь тёмном углу, зажимающей ладонью рот, чтобы никого не разбудить и не побеспокоить, задыхающуюся в приступе паники. Не могла и тогда, на кухне, правда, уже по другой причине.
Она незаметно обняла меня и слегка сжала. Её парфюм ещё не выветрился, а выбившийся локон щекотал мне щеки. Эти объятья предназначались не мне, а её дочери, которой суждено той ночью было остаться на попечении одного лишь отца. В этой грязной квартире вовсе не её жизнь. Погладила меня по голове:
— Чем тебе помочь? – прошептала она, лишь на пару тонов перекрывая мои всхлипы. Я опять не знала, кому из нас она задала этот вопрос. Слезы сильным потоком застилали глаза.
«Я не знаю», — мне стыдно было это признать. Сестра и так слышала, как эти фразы эхом отдались в стенках моего сознания. Точно слышала.
Я ждала, что после этого она наконец-то уйдёт навсегда.
Но она не ушла.
Туман висел над городом добрую половину дня. Влетал в трубы, заслонял окна и недвижимо наблюдал, следил и задумывался. Я наблюдала за ними – деревьями, туманом и воронами, изредка зависавшими на ветках – свесив ноги с подоконника. Окно было завешено по меньшей мере месяц, и вид за ним успел стать непривычным. Да, для меня весна наступила незаметно. Однако больше всего я любила именно её и впивалась взглядом во все её проявления. Сезоны дождей, теплеющих с каждой каплей, цветущие ветки, свежая пышная листва. И птицы. И холодная газировка, которую можно прижимать к щеке в середине мая, примостившись на причале. Моменты, которые я заперла в своей грудной клетке, теперь выглядели недостижимыми.
Едва ли я могла снова выйти на улицу после такого продолжительного перерыва. Это казалось таким же фатальным, как полет вниз головой со скалы в пасть к Кракену. По крайней мере, мне требовалось хоть немного времени, чтобы восстановиться. И если бы кто-то был рядом со мной, на кого бы можно было все это время опираться, было бы ещё лучше. Только я не могла просить и это от неё. И все же именно на эту истязающую сознание пытку она сама согласилась, не спрашивая у меня разрешения.
Закинув большую спортивную сумку в «свою» комнату, сестра перешла в наступление на тараканов, или что там кишело в моей квартире. А меня почти усадила на подоконник, сунув в руки ошарашенного кота и ноутбук.
— И что мне с этим делать? – с сомнением спросила я, разматывая полотенце на голове. Отросшие за год отшельничества, волосы, оказывается, нужно было регулярно мыть. Принюхалась к собственной коже – она пропахла новеньким гелем с экстрактом зелёного чая. Приятно… — Ты надолго?
— Посмотрим, — уклончиво бросила она из коридора и тут же перевела тему, — Вот это да! Не знала, что ты покупаешь картины, — сестра вынесла один из холстов, небольшой, а заодно один из моих любимых – как почувствовала — в комнату, улыбаясь, — Какая красивая! – у меня заскребло на душе, но я кивнула безо всякого выражения. – У тебя много картин этого художника… Твой знакомый?
Я взяла холст из её рук. Тёмное грозовое небо, из которого тянутся клубки нитей. В каждом облаке сотни образов – лица, животные, даже, кажется, звуки. И такая детальная, затягивающая – словом, шедевр. В углу знакомая отрывистая подпись перьевой ручкой.
— Одна из его последних картин, — случайно произнесла я вслух. Сестра выжидательно на меня смотрела, — Да, близкий друг. Он решил отдать мне все свои картины… В смысле, те, которые не продал, — я попыталась выдавить улыбку, но вышло паршиво.
Кот спрыгнул с подоконника, но сестра не обратила внимания. Она напряжённо о чем-то раздумывала.
— А где он сейчас? – я услышала нотку недовольства в её голосе. Она решила, будто он забросил меня гнить. Хотя в каком-то смысле так оно и было.
Мне не хотелось говорить, чтобы не портить ей настроение. Однако она сама подняла эту тему.
Я прокашлялась и протянула ей холст:
— Он умер, — она широко раскрыла серые глаза. – Около года назад.
— Мне жаль, — проговорила она, разворачиваясь, чтобы отнести картину на место.
Мне жаль, что я никогда ей о нем не рассказывала. Не было причины, да и привычки выкладывать все, что за душой при первой же встрече за мной не водилось. От воспоминаний нахлынула волна беспокойства. Я попыталась привести дыхание в порядок. Опять не знала, как крикнуть о помощи. Вроде бы, все так просто.
— Не волнуйся, — запинаясь, произнесла я, положив холодную руку на горло. Подоконник внезапно показался очень узким. Туман – зловещим духом, стерегущим тени моего разума. Будто все возвращалось к тому времени, год назад.
Так тяжело дышать.
Сестра вновь выглянула из коридора. В приближающемся приступе она показалась мне размытым пятном, а ее голос – колокольным звоном:
— Может, повесим их на стены? — в руках она сжимала гвозди и молоток, — Чтобы не пылились.
Дыхание пришло в норму, стало так тихо, словно все это время я думала, что блуждала в темноте, а теперь кто-то запросто рассказал мне, как открывать по утрам глаза.
— Действительно, — выдохнула я и спрыгнула с подоконника. Почему-то я ни разу не допускала такой возможности. – Давай я выберу.
Туман рассеялся к полудню.
Я пыталась раскладывать свои свежевыстиранные вещи и вдруг услышала хруст бумаги. Сестра разворачивала скомканный листок, который я не подумала убрать, как и, в принципе, все нагромождение из залитых чаем и чернилами блокнотов, листков и тетрадей. Удивительным образом, давно плюнувшим в лицо законам гравитации, это строение удерживалось, но, стоило сестре снять с его верхушки вишенку, оно предупредительно закачалось.
Она пробежалась по истерзанной бумаге глазами и мягко проговорила:
— Неплохо… Да… Мне нравится, — обошла кучки с мусором и протянула листок мне, наклонившись. Усилий стоило сдержаться и не кинуть его тут же в ведро. Я хмыкнула. Полстраницы было залито китайским чаем, но разобрать буквы было нетрудно.
— Дрянь, — бросила я, не вчитываясь.
Чего я не понимала, так это почему продолжала держать эту гору под рукой, а не сожгла во дворе года три назад, когда все пошло под откос. Не задвинула, не спрятала, а постоянно на неё оглядывалась, как на призрака, белёсыми глазами уставившегося из зеркала в середине ночи. А иногда в приступе паники собирала эти обрывки листов, комкала и набивала ими наволочку, чтобы чернила просочились в самое ядро головного мозга и вернули тому радиоприёмнику голос, а морю солёность.
Сестра с сомнением посмотрела на меня, на листок, снова на меня. Из-под полуприкрытых век выглядывало снисхождение. Она положила листок к стопке впустую испачканной бумаги, нарочито аккуратно разгладив его. Горка шевельнулась. Как бы пожала плечами.
— Амели понравилась одна из твоих последних книг, — подала сестра голос, снова отвернувшись от меня, чтобы продолжить уборку. Я сумела выдавить смешинку – её дочери было всего шесть. – Она просит иногда перечитывать её ей перед сном, даже сама пытается. Я тоже читаю то, что ты пишешь.
Я незаметно приподняла брови и прикусила язвительный комментарий на кончике языка. Разговаривать на тему книг абсолютно не хотелось. И так ясно, к чему мы придём в итоге.
— Ты знаешь, я не разбираюсь в литературе, — я все ещё исследовала взглядом затяжки на задней стороне её старой клетчатой рубашки. Руки усиленно раскапывали содержимое какого-то ящичка. – Но меня захватило… Не потому что ты моя сестра.
Ей было очень важно это добавить.
— Возможно, — уклончиво проговорила я.
— У тебя здорово получается! – настояла она. – Даже премии давали – видела в газете.
Одежда как будто бы стала тяжелее и непослушнее, чтобы ее складывать. Я положила стопку свитеров в дальний угол полки и со вздохом пересела на табурет. Устала.
— Думаю, многие ждут твоей следующей книги, — как бы между прочим сказала сестра.
— Вряд ли, — неопределённо ответила я, – Вряд ли смогу что-нибудь написать. Я уже себя исписала, — смущённо потёрла шею и уселась по-турецки. Обстановка накалялась, как поверхность утюга. Тронешь и обожжёшься.
— А это что? – сестра раздражённо махнула рукой на горку.
— Привычка, — отрезала я. Сестра повернулась ко мне лицом и с укором покачала головой:
— Ты не должна себя ограничивать, — с каждым словом она почти незаметно повышала тон. – Если теперь нужно прикладывать совсем чуточку больше усилий, оно вовсе не значит, что ты исчерпала свой талант. Ты едва ли на середине. Нужно лишь постараться.
Мой голос прозвучал угрожающе тихо и звонко, как падающий со стола хрусталь:
— Откуда ты знаешь?
Как сестра сама сказала, она мало что знала о творчестве. Об исканиях, разочаровании и глубокой обиде на мир, за которой скрывалось безграничное безудержное восхищение. Отчуждённость. Мне не нужно было ей об этом напоминать.
Суровые серые глаза на ровном лице превратились в копья и безжалостно пронзили меня насквозь. Если бы могла, она бы пригвоздила меня к стене, схватила бы за шкирку и плеснула бы воды в лицо, чтобы опомнилась и держала слова на коротком поводке.
Под пристальным вниманием собственных рассудка и совести она сдерживала себя в сжатых кулаках и в этой заключённой ярости уподоблялась кремово-белой гипсовой статуе, по ошибке завезённой в мою квартиру. Она и картины – прекрасные и нетронутые – яркие пятна среди танцующей в воздухе пыли – ополчились против меня и бушующей волной норовили обрушиться на пятки.
— Верно, — раздался гром из её гортани. Сестра положила тряпку на тумбочку. «Вот что ты обо мне думаешь», — читалось в её выражении. Горечь.
Мы стояли в молчании, глядя друг другу под ноги.
Она схватила со стола ветровку и выпрыгнула в коридор:
— Схожу за продуктами, — кинула, скрывая лицо.
Я бросилась за сестрой, но слова застряли и засохли где-то в районе живота. Я беспомощно зависла посреди коридора. Дверь захлопнулась за ней в ту же секунду.
Она знала, что я не смогу за ней побежать.
Как глупо.
— Можешь, потише? – закричала я, отстукивая в такт по деревянной двери её спали. Жуткая клубная музыка до основания пропитала стены. Что за знакомое раздражение…
Сестра не отвечала. Может, заперлась в каком-нибудь саркофаге и растворилась в гадком подобии музыки.
Я пыталась достучаться ещё минут пять, но дверь не поддавалась.
Сестра остановилась у меня на неделю.
— Я сегодня уеду, — объявила она с ярко выраженной точкой. Оно и так было понятно – я заметила спортивную сумку, оставленную заранее перед входной дверью.
Это не было обидно – то, как она спешила сбежать. По крайней мере, я понимала.
Всю неделю сестра только убиралась, готовила, оставляла инструкции и рецепты на будущее, словно и до срыва я не справлялась с самостоятельной жизнью, в одной из брошенных пустых тетрадок, которую с некоторым трепетом возложила на кухонный стол. Мы не разговаривали больше по душам, почти не проводили времени вместе, прямо как в родительском доме.
В какой-то степени я боялась, что она так просто возьмёт и уедет, как и собралась сделать в злосчастное воскресное утро. Исчезнет из моей жизни в свою и забросит. Из-за неё я, пожалуй, впервые забоялась одиночества. И кроме одиночества, я боялась самой себя.
Покончив с завтраком, я проводила её до порога. В таких случаях, видимо, принято обниматься, но мы не сделали ни шага навстречу друг другу.
— Ты справишься? – полувопросом-полуутверждением проговорила она. Я выдавила из себя что-то несвязное. Сестра перекинула через плечо сумку, — Звони, если что, я тут же приеду.
Не дожидаясь от меня благодарностей и ответных реплик, она исчезла, но напоследок сказала, нахмурившись:
— Напиши, что было на том листке… Сделай хоть что-нибудь.
Казалось, не было худших слов прощания, чем эти.
Только жизнь начала стабилизироваться, как пришло время пополнить запасы продуктов. С урождённым талантом я откладывала любую мысль о том, что когда-нибудь моему добровольному заточению придёт конец. И стоило кончиться запасам продовольствия, перед моим бренным телом открылось два пути: святой мученицей остаться в квартире и постепенно иссыхать от голода, либо пересилить страх и выйти на всеобщее обозрение. Первый выход был на расстоянии вытянутой руки. Дарил иллюзию достоинства и самодостаточности. До тех пор, пока не приходила сестра и не доставала меня со дна колодца.
Но непривычно светлая квартира, прекрасные картины на стенах – каждая из которых – кадровый ряд в голове – и, конечно, занавески, которые она раздвинула… Солнце вбегало в комнату через окна и наворачивало по ней круги, картины шептали ободрения текучим голосом своего создателя.
Я проголодалась.
Потянувшись к ноутбуку, услышала птиц и на цыпочках подкралась к окну. Цветущие белым ветви захватили улицу от начала до конца. Весна давно плющом обвила моё сердце и теперь рывками тащила на улицу. Мне хотелось потрогать деревья кончиками пальцев.
Я застегнула ветровку, взяла сумочку с кошельком и погладила полосатый комок шерсти. Кот протяжно мяукнул. А я вытрясла дрожь в руках и схватилась за дверную ручку.
Легко и просто. И обманчиво.
Пятилетняя я представляла себе жизнь с сестрой своеобразной версией игры в «дочки-матери». При мысли о младшей сестре видела живую куклу, которую с трепетом буду развлекать и хранить в сундучке с драгоценностями. Соответственно, выпрашивала ее у родителей, словно дорогущую игрушку. Кричала по всем углам, что хочу младшую сестрёнку.
Задолго до её непосредственного рождения распланировала первые десять лет нашего сожительства и тёплых дружеских отношений, никому не интересное «долго и счастливо».
Жаль, что у меня был существенный недостаток. Тяга это к драматизации или предвидение, вскоре я забоялась, что сестра заменит меня на посту всеобщей любимицы. Чистая и невинная детская ревность сжигала слабое пятилетнее сердце. Картины носились перед искрящимися зелёными глазами, где я оставалась в тёмном уголке в тени всеобщего смеха. В мгновения таких дневных снов печаль и сожаление закрадывались в моё маленькое тело, и я всхлипывала как можно громче, ожидая, что кто-нибудь наконец придёт меня утешить.
Трёхлетняя сестра днём спала в моей комнате. Я была слишком занята школой и кружками, чтобы уделять ей внимание, да и в три года дети оказались неожиданно невменяемыми и непонятливыми, поэтому все мои розовые мечты были выжаты крохотными детскими ручками. Так что наше общение было довольно-таки ограничено, если меня вдруг не приставляли к ней в качестве няньки.
И однажды она своей несвязной детской речью рассказывала о том, что увидела сквозь сон в моей комнате:
Чёрное облако, которое накрыло её и мою мать. Оно рычало, нависало над ними, а потом исчезло.
Едва ли мои родители приняли рассказ всерьёз, но у меня был острый страх темноты, через который я перешагнула лишь много лет спустя. И той ночью, лёжа в своей комнате, я напряжённо вглядывалась в темноту, стремясь отыскать то таинственное существо. Тогда я зажмуривала глаза, предпочитая завесы и неведение ужасной правде – чудовищу с клацающими челюстями, пережевывающему каждый кусочек моего тела.
Вымученная бессонницей, я звала родителей, чтобы они включали ночник. И становилось спокойнее.
Спускаясь по лестничному проёму, я опасалась держаться за перила.
В каменном подъезде было промозгло, как в подземной пещере. Я чувствовала на своей шее чьё-то испуганное дыхание, возможно, моё собственное. Стены были скрыты за объявлениями, раскрашенные граффити, но нигде в них не было слышно человеческих шагов.
Мои родители оба были младшими детьми, но навязывали мне правила поведения, как старшей из нас двоих. Ругали, читали нотации – нескончаемый поток слов с поверхностным смыслом. Они не пытались вникнуть. И со всех сторон меня душили чужие ожидания, требования, а потом – будто до этого не хватало – не только семья, но и люди, раз за разом глотавшие продукты моего подсознания, сюжетные крики, заперли меня в тюрьме вращающихся глазных яблок.
Кто-то говорит о незыблемом авторитете, дозволенности, опытности в сравнении с младшими. Но на деле это приносит лишь малую долю удовлетворения, а в остальное время грузом ложится на плечи. Однако больше всего меня раздирала роль первопроходца. Ведь все ушибы, пробы и ошибки приходились на меня. Сестре можно было только отследить их и исправить в своей судьбе.
Раз нас было двое, неотвратимо и то, что нас сравнивали друг с другом. Соотносили заслуги и промахи, способности и слабости – иногда неосознанно, но я никогда не понимала, зачем это кому-то было нужно. Сколько бы не было у нас с сестрой общего, мы – не картинка в детском журнале «найдите-различия».
Все наши нити внутри. Связанные неразрывным клубком, который перекатывается и спутывается все сильнее. И как бы далеко мы ни были, выпутаться не выйдет.
Суета клубилась дымом по улице. Люди ходили, оглядывались, двигались. Я не знала, о чём они думали. Я забыла, как нужно с ними взаимодействовать.
К тому времени, как паника достигла пика, я успела далеко отойти от дома, а от головокружения не могла сконцентрироваться на обратной дороге. Я облокотилась на ствол дерева и опустилась на землю, не чувствуя сил стоять.
Люди проходили мимо и смотрели мне в лицо, пытаясь разглядеть в нем свои опасения. Они подходили ко мне и спрашивали, все ли в порядке, но я не различала их голоса из-за адского гула в голове. Промахиваясь мимо клавиш, я набирала номер сестры.
Она ответила на третьем гудке.
— Мы с тобой будем выходить по нескольку раз в день. Если что-то будет не так, скажешь мне, — рассказывала сестра, протягивая мне кружку ромашкового чая.
— Знаешь, было бы проще нанять психотерапевта, — беззлобно заметила я. С выхода на улицу прошло почти полтора часа, и колени наконец перестали дрожать. Опираясь на плечо сестры по пути домой, я ощущала растущую в груди уверенность, но глядела себе под ноги до самого дома.
— Проще, но не лучше, — отрезала она. Сестра собиралась остаться со мной ещё на какое-то время. Она расслабилась, когда по пришествии в квартиру бегло осмотрелась кругом и увидела, что я сохранила порядок, но этот приступ, хотя он был не опаснее предыдущих, её испугал. Точнее, мотивировал довести все до конца. Постепенно, но вывести из опасной фазы. — Я начала читать книги по практической психоаналитике.
У меня не получилось подавить иронический смешок. Сестра тоже улыбнулась, но лишь уголками губ, будто ещё сдерживала себя. Наш предыдущий разлад в тот момент оказался абсолютно бессмысленным и пустяковым.
— Надеюсь на вашу помощь, доктор.
— Вижу, тебе лучше, — произнесла она с одобрением. – Я испугалась, что все будет, как в прошлый раз.
Я тоже. В тот, о котором она не знала, а я предпочла забыть.
— Пришлось постараться, — кивнула я. – Прости, что снова напрягаю.
Сестра доверительно похлопала меня по плечу:
— Главное – не чувствуй себя виноватой, хорошо? И прислушайся к моим советам, — она положила ногу на ногу и переплела тугие косы в привычный домашний узел, — Может, я мало знаю о последних пятнадцати годах твоей жизни, но, как ни странно, могу предположить, с чего тебе нужно начать. Даже если ты сомневаешься.
Я неловко потирала запястья от такого напора – мягкого, осторожного и действенного. Мы обе знали, что только она сможет поймать меня и перевернуть с головы на ноги. Не безликие образы профессионалов, которых можно заменить простеньким диктофоном из восьмидесятых. А сестра, протянувшая мне руку возле цветущего дерева.
— Амели очень хочет тебя увидеть, — продолжила она, перехватывая мой взгляд. – Когда ты… окрепнешь, мы сможем все вместе сходить в парк, — завлекающие цветные сценки сразу мелькнули перед глазами, и я жадно сглотнула. – Съездить в горы, куда ты захочешь. Просто вспомни все, что от тебя скрыто.
У меня зарябило в глазах. Горячий чай прожигал ладони, а мысли — лоб. Смущение и неуверенность сплелись в венок, охвативший мой череп. При яростном взвизгивании уязвлённой гордости я напомнила себе, что не могу быть хозяйкой положения, если давно потеряла возможность хозяйничать в собственной голове.
— Мы уже начали терапию? — уклонилась я, но приняла её слова всерьёз. Однако не представляла, как это показать. Теребила пальцами левой руки край футболки и мелкими глоточками отпивала из кружки. Сестра внимательно следила за моими движениями. Анализировала.
— Напиши что-нибудь для начала, — проговорила она, до сих пор держа со мной зрительный контакт – методика, догадалась я. Серые глаза напоминали печальное дождевое небо. Она готова была грустить вместе со мной.
Как бы мне не хотелось сбежать в какой-нибудь ящик, запереться и закрыть глаза, я не позволила себе отказаться:
— Я попробую, — и допила остатки чая.
Я не уставала удивляться, до чего идиотские идеи иногда приходили мне в голову. И сам факт, что выкинуть их было жалко, так же смущал.
Когда сестра вошла в комнату, казалось, будто по помещению прошёлся торнадо. Листы валялись по всей комнате, разбросанные без какой-либо систематики, тетради раскрыты и брошены на полу, белая бумага в ярости исчерчена чернилами. И посреди бумажных завалов на корточках сидела я и просматривала очередные записи.
Ничего не захватывало. Бессмыслица.
— Не слишком удачно? – поинтересовалась она. – Не знаешь, с чего начать?
Стараясь ни на что не наступить, сестра пробиралась ко мне. Её лицо выражало глубокое участие.
И я с заметным облегчением отвернулась от собственных каракулей:
— Бесполезно, — покачала головой.
Она опустилась на колени напротив меня и с готовностью проговорила:
— Обсудим?
Я тяжело вздохнула и остановилась. Помолчала – не знала, как начать. Понимала, как все попытки высказаться на выходе окажутся банальными и детскими. Я не умела говорить… Вслух.
Сестра прокашлялась:
— Тебе больше не нравится писать? – спросила она.
Я оглянулась на черновики:
— Нет, но…
— Тогда… Не о чем писать? – предположила сестра.
— Вовсе нет… я… я не могу больше писать, — неуверенно проговорила я, пытаясь придать силы своему голосу. Перешла сразу к сути – к ней-то она меня и подводила. – Раньше я делала это только для себя, мечтала, может, о вселенской славе, но мне нравилась лёгкость. Как, когда пишешь, носки отрываются от пола. Она была. До той официальности, которую требуют сейчас. Стандарты, переменчивые вкусы, тенденции, — сделала паузу. Сестра внимательно прислушивалась, но выражение её лица прочитать было практически невозможно без увеличительного стекла и рентгеновских лучей. – И я чувствую давление со всех сторон – знакомые, издательство, пресса – но кому это все на деле нужно, кроме меня? А я не знаю, похоже, что мне самой нужно… Кто… Я потерялась. Устала… Если делать все для себя, не быть сжатой всякой белибердой, а освободиться, скинуть этот вес, я бы… Не хочу… Я так устала…
Я опустила глаза себе на руки и заметила, что в клочья изорвала листочек, который задумчиво держала в руках – ещё одна вредная привычка.
Сестра встала и молча стала поднимать с пола листы:
— Ты можешь перестать в любой момент, — привычным мне твёрдым и беспрекословным тоном бросила она через плечо. – Выплатить штраф издательству, пошуметь в газетах и исчезнуть, словом, как хочешь – писать в этой каморке, устраивать истерики время от времени. Или вообще не писать. Делай, что хочешь, – тут она повернулась ко мне. – Но у тебя есть обязанность. Не та, что в договорах. А по праву твоего существования. Может, всем наплевать, выполняешь ты её или нет – никто не будет тыкать тебя в неё носом. Кроме меня. Я буду, и ты тоже должна помнить, что мне не все равно. И не только мне. Амели. Моему мужу. Нашей матери. Когда ты звонила ей, я уже не говорю про визиты, в последний раз? Она так волнуется, но боится тебя побеспокоить. Думает, ты сейчас по уши в работе. А я так и не могу сказать ей, что у тебя проблемы. Легко было здесь запереться, предоставить миру возможность разбираться самому с тем, что ты в него внесла. Не беги от ответственности. Мы будем рядом, только позови, но твоя жизнь – это ты. Не то, что мы в ней делаем. Поэтому пробуй снова и снова, пока не получится. Стирай, начинай сначала. – она обвела руками комнату. – Помоги мне собрать все эти бумаги и отнести ко мне в комнату. А потом пиши, не оглядываясь ни на что.
Встретив наш напор, комната засияла первозданной пустотой, и сестра решила деликатно удалиться, оставив меня наедине с письменными принадлежностями. Но напоследок я спросила:
— Почему ты думаешь, что мне это поможет? – кивнула на письменный стол.
Она задумчиво оглядела меня, словно в первый раз, чтобы убедиться в своём предположении:
— Это твой воздух, — выдала она. – А мне казалось, у тебя были проблемы с дыханием.
Я подумала, поэт, пишущий излишне слащавые стишки на корках газет. Но нет, это была она. Моя сестра – прозорливая и всезнающая. Исчезнувшая в дверном проёме, но громко шагавшая по коридору. Мне оставалось только посмотреть ей вслед. И усесться в знакомое кресло.
Мы были на середине просмотра какого-то сопливого черно-белого фильма, когда у сестры зазвонил телефон.
К тому моменту мы успели около пяти раз удачно выйти на улицу. И я писала. Правда, очень медленно и неуверенно. В свободно&